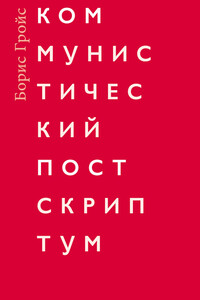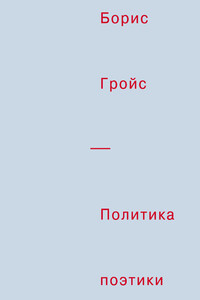Введение в антифилософию | страница 24
Когда Кьеркегор говорит о трех жизненных позициях— эстетической, этической и религиозной, — которые он одновременно понимает как стадии жизни, то третья из этих позиций, религиозная, есть не что иное, как новое истолкование эстетической позиции, подобно тому как этическая позиция представляет собой новое истолкование общественной нормы. Парадокс религиозного играет роль внутреннего оправдания экстраординарного — роль, которую эстетическая позиция сама по себе выполнять не может. Подобно тому как банальное приобретает скрытое измерение благодаря этическому и уже не может восприниматься как нечто одномерное, так и эстетическое получает более глубокое, скрытое значение в религиозном. Стремление к экстраординарному, бегство от банальной действительности лишь внешне продиктованы погоней за развлечениями, удовольствиями и запретными радостями. Внутренне такая погоня за экстраординарным может направляться аутентичным — и, следовательно, необъяснимым — религиозным импульсом. Но, как и в случае с этическим, это различие между эстетическим и религиозным остается скрытым. Регина Ольсен говорила впоследствии, что Кьеркегор принес ее в жертву Богу, но это объяснение, которое подсказывают «Страх и трепет» и другие поздние сочинения Кьеркегора, им самим никогда напрямую не высказывалось. Конечно, Кьеркегор непрямо отказался от «эстетического» объяснения, которое предложил при расставании с Региной. Но амбивалентность, неопределенность никуда не делись. Эта неопределенность сохранялась до конца их дней.
Сегодня трудно избежать впечатления, что этот знаменитый разрыв был со стороны Кьеркегора попросту литературным приемом, который позволил ему войти в текст. Рефлексирующий интеллектуал из среднего класса, влюбленная в него наивная девушка, его эгоцентрическая измена, о которой он впоследствии горько сожалеет, образуют сюжет, в целом характерный для литературы XIX века — его без преувеличения можно назвать мифом девятнадцатого столетия. Воспроизведение этого мифа давало писателю хорошую возможность, не тратя сил на поиски нового сюжета и не отвлекая свое и читательское внимание от существенного, сконцентрироваться на этом существенном, то есть на внутренней философской рефлексии героя относительно своих страстей, долга и вины. Этот прием, как известно, не раз использовал Достоевский, заимствовавший сюжеты занимательной беллетристики, чтобы поскорее привести своих героев в безвыходную ситуацию, в которой они могли бы спокойно философствовать насчет этой самой ситуации на протяжении последующих трехсот страниц. Что касается характера этого философствования, то и тут Кьеркегор не сильно отличается от Достоевского: та же валоризация банального за счет пронизывающей ее внутренней неопределенности, то же квазипреступление, которое наделяет героя духовной глубиной.