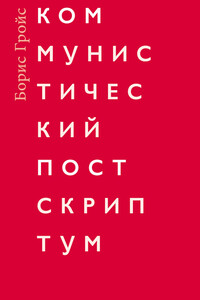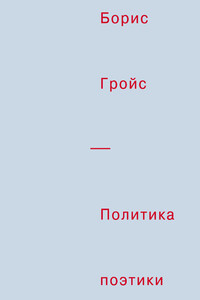, обнаруживают сходство с идеями Кьеркегора — в данном случае
с его рассуждениями в «Понятии страха». Однако Хайдеггер трактует внутреннее время субъективности как время решимости, бытия к смерти, конечное время индивидуального существования; это время, в противоположность предположительно бесконечному — и потому обманчивому — времени всеобщего, времени анонимных «субъектов», является истинным и конкретным временем, которое раскрывает подлинное онтологическое положение индивидуума. Для Кьеркегора внутреннее время субъективности также представляет собой время индивидуальной решимости, но как таковое, то есть как экзистенциальное условие возможности принимать решения, оно является одновременно временем бесконечной нерешительности, выходящим за пределы исторических преодолений, или «снятий». Решение, или выбор, о котором говорит Кьеркегор, это именно выбор между тем, что можно назвать индивидуальными и неиндивидуальными интерпретациями собственного существования. Однако для Кьеркегора этот выбор всегда остается открытым; как автор Кьеркегор постоянно балансирует между соответствующими альтернативами, оттягивает решение или делает его парадоксальным и невозможным. Тем самым он непрерывно обновляет время своего внутреннего существования. Напротив, Хайдеггеру выбор конечного бытия к смерти однозначно представляется единственным правильным выбором, а попытки избежать его — «неподлинными». Однако страх к смерти принуждает индивидуума к этому правильному выбору даже помимо его воли, даже в том случае, когда этот индивидуум игнорирует возможность своей смерти. Тем самым Хайдеггер в основном соглашается с кьеркегоровским этиком Б. и его анализом собственного существования внутри современной банальности: напряжение «или — или» завершается окончательным, хотя и напряженным актом понимания, и время субъективности вновь становится конечным.
Между тем у Кьеркегора этический выбор не кладет конец бесконечному времени эстетической позиции. Это время, если можно так выразиться, становится еще более бесконечным, поскольку репертуар игры с масками реальности пополняется еще одной маской, а именно маской банальности. В связи с этим особенно удивительно, что в своем анализе экзистенциального прыжка или выбора, проделанном Кьеркегором после «Или — или», он больше не говорит о выборе самого себя — а если и говорит, то о самом себе как о человеке, который выбирает другого. Как христианин он является тем, кто выбирает Христа как Бога, причем этот выбор столь же парадоксален, как и выбор самого себя. Разница, однако, заключается в том, что выбор самого себя как христианина мог расцениваться как банальный только в контексте копенгагенского общества XIX века. Поскольку же Кьеркегор настаивает на том, что выбор в пользу христианства в XIX веке остается по сути столь же экзотическим, как и выбор первых христиан, он признает, что субъективность может также принимать необычные, небанальные, неиндивидуальные решения в пользу определенных исторических форм — но только на основании того, что они могут скрывать. Эта стратегия напоминает готовность Ницше признать интересными древних греков именно из-за того, что их исторически зафиксированный жизнерадостный образ обманчив и скрывает за собой трагедию.