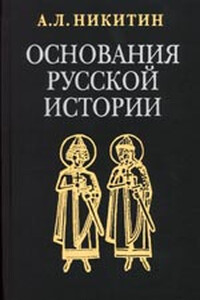Над квадратом раскопа | страница 63
Такая закономерность в отношении человека к пространству позволяет сделать и еще два вывода: первый тот, что долговременные стойбища первобытных охотников не могли существовать ближе двадцати километров друг от друга (как показывает опыт, для лесных охотников расстояния были значительно большими), а второй — что наличие или отсутствие природных ресурсов на этой территории, их количество и качество, должно было жестко ограничивать численность населения стойбища и продолжительность его обитания на одном месте.
Что же искал человек? Какие точки выбирал он для своих стойбищ в окружавшем его пространстве? Чем руководствовался он в этом выборе? Естественно, ответы на эти вопросы я мог получить только индуктивным путем, восходя от частного — к общему, опираясь на те данные, которыми располагают археологи, и на собственный опыт.
Кольский полуостров, как, впрочем, и вся северная зона вообще, предоставлял в распоряжение исследователя два вида сезонных стойбищ — летние, береговые, и зимние, находящиеся на внутренних озерах в лесах. Я думаю, что только малая изученность этой территории и трудность обнаружения редких остатков человеческой деятельности не позволили до сих пор выделить третий, промежуточный вид освоенной человеком территории: места постоянных остановок на маршрутах сезонных кочевий, как то было заведено у саамов. Такие места должны располагаться на берегах ручьев или озер, отличаться крайне малым количеством оставленных предметов и, по-видимому, отсутствием долговременных, углубленных в землю очагов, вместо которых почва должна хранить следы многократных кострищ.
Суммируя, можно сказать, что рыболовы и охотники Севера вступали в соприкосновение с окружающей средой в трех разных вариантах «дома»: в виде долговременных зимних поселений, отмеченных полуземлянками, в виде сезонных летних стойбищ, отмеченных постоянными очагами, и в виде кратковременных стоянок, неизбежных при их кочевом образе жизни. Эти последние не попали еще в поле зрения археологов. Не попали на Севере, потому что в нашей средней полосе как раз все эти три вида памятников достаточно хорошо известны.
Уже первые шаги в поисках древних поселений на берегах Плещеева озера поставили меня перед непреложным фактом: все без исключения остатки деятельности неолитического человека были связаны с песком и древними берегами водоемов. И то и другое достаточно легко поддавалось объяснению, и, как я думаю, объяснению правильному. Человек выбирал наиболее сухое место, расположенное близко к воде, поскольку он был все-таки рыболовом. В то же время, обходя извилистые очертания древних побережий озер, прослеживая береговую линию прошлых эпох, теряющуюся сейчас в зарослях папоротника и кустарника, там, где дюна переходит в заболоченную низину поймы, я мог видеть, что отдельные участки этого берега для древнего человека были отнюдь не равнозначны, как не одинаковы были и оставленные им следы.