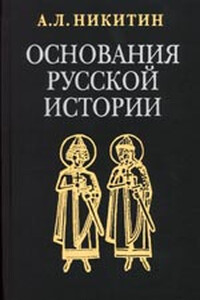Над квадратом раскопа | страница 42
Истоки настоящего следовало искать в прошлом, все равно далеком или близком.
В глубинах тысячелетий складывалось единство человека и природы, разрываемое, порой на наших глазах, цивилизацией. Как считает большинство социологов, такое положение вещей вовсе не было предопределено прогрессом. Так, может быть, стоит спуститься в глубины прошлого, чтобы выяснить, как именно шло развитие человеческого общества и где, на каком этапе возникает та или иная роковая ошибка, ставящая сейчас под угрозу будущее? Одинаково — будущее природы и будущее человека…
Опыт Севера давал пищу для размышлений, но его нельзя было перенести целиком сюда, на Ярославщину, куда я после многолетнего перерыва приехал снова этой весной, — здесь требовался совершенно иной подход к проблеме.
То, что в нашей средней полосе России давно исчезло, было скрыто землей, лесами, болотами, тысячелетиями преобразовывавшейся человеком природы, на Севере еще сохраняло первозданные форму, цвет, вкус и даже звук — такие, как хорканье оленей, нежное, жирное мясо семги, маршруты сезонных кочевок с их тропами, постоянными очагами, чумами и всем укладом жизни, подчиняющимся до сих пор сезонному круговороту природы.
Другими словами, на Севере прошлое было тесно слито с настоящим.
Легкость реконструкции этого прошлого объяснялась еще и тем, что угол моего зрения был преднамеренно сужен. Он охватывал только один вариант культуры арктического неолита — оленеводческий, уходящий в глубокую древность, оставляя в стороне культуру охотников на морского зверя, мореходов и строителей лабиринтов, а также остальные достаточно сложные и яркие культуры, известные по археологическим находкам в Карелии и Финляндии, которые свидетельствовали о продвижении потомков первопоселенцев все дальше на север.
Там, на краю обитаемого человеком мира, все было зримо, наглядно, просматривалось так же, как остатки древних стойбищ на раздутых ветром галечниковых террасах. За современностью явственно проступали очертания прежней жизни…
Совсем иначе все это выглядело в средней полосе России, в междуречье Волги и Клязьмы, а еще точнее — в зоне обширных озер и болот, протянувшихся по землям Ярославской области. Здесь приходилось обращаться не только к археологическим и палеогеографическим фактам данного района, но постоянно сравнивать их с материалами, добытыми наукой на обширнейшей территории от Баренцева моря до Черного и от Урала до Карпат, если не еще западнее. Только так можно было представить себе и понять процессы, происходившие в том «квадрате», к которому я относился с особо пристальным вниманием, — к району Плещеева озера.