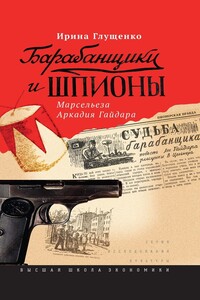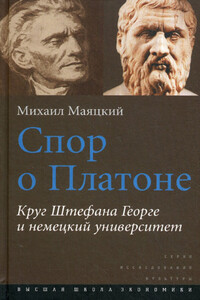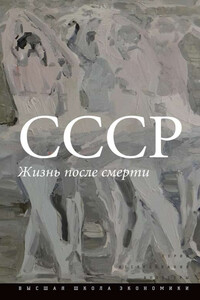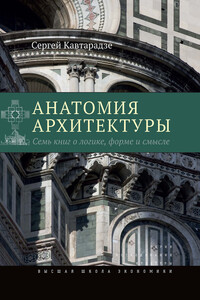Пастиш | страница 58
Для того чтобы выполнить некоторые из своих функций в романе, часть с дневником Гонкуров должна быть пастишем по чисто техническим причинам. В ней описывается посещение салона Вердюренов, который Марсель тоже посещал и описал (о чем мы уже читали); в рассказе Гонкуров его поражает расхождение между тем, как они его помнят и как его помнит он. Поскольку Вердюрены — вымышленные персонажи, Пруст не может использовать настоящий отрывок из «Дневника», поскольку в нем не фигурируют ни Вердюрены, ни сам Марсель. Точно так же он не может заставить Марселя наблюдать и описывать реальную сцену, которую представляют Гонкуры, а затем вставить соответствующий отрывок из Гонкуров в свой роман, потому что это противоречило бы его методу построения характеров. Центральную роль в композиции «В поисках утраченного времени» играют сквозные персонажи, потому что роман прежде всего повествует о том, как меняются люди и как меняется их восприятие Марселем: Пруст не мог бы проделать этого с реальными людьми и нарушил собственный замысел, если бы ввел в одну из сцен реальных людей только для того, чтобы привести цитату из настоящего дневника Гонкуров.
По этим причинам отрывок из дневника Гонкуров должен быть пастишем. Но зачем вообще нужен отрывок из дневника, якобы написанного реальными авторами, а не пастиш (или даже выдержка) на дневник вымышленных писателей, возможно, похожих на Гонкуров (важно, что Марсель размышляет о своем письме, сравнивая его с натуралистическим текстом), пусть даже с явной отсылкой к ним, но все-таки без непосредственного подражания? В какой‑то мере, создавая пастиш на реальное произведение, Пруст остается в границах традиции пастиша, обсуждавшейся в данной главе — пастиша как имитации «идей и стиля прославленных писателей», как его определила Французская академия в 1835 г. Но это также связано с озабоченностью романа отношениями между литературой и реальностью.
Среди прочего в «В поисках утраченного времени» рассматривается идея восприятия внешней реальности, не как непосредственное познание или сугубо субъективная проекция, а как нечто вроде субъективно опосредованного наблюдения за реальностью, которая одновременно и отделена от наблюдателя, и оказывает на него воздействие. Более того, роман признает, что в действительности литература никогда не является ни самой реальностью, ни самим сознанием. Иными словами, литература, как и всякое искусство, в своих отношениях с внешней реальностью и сознанием испытывает на себе ту же самую неустранимую динамику опосредования, какую они испытывают в отношениях друг с другом.