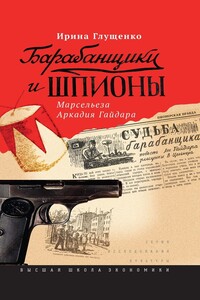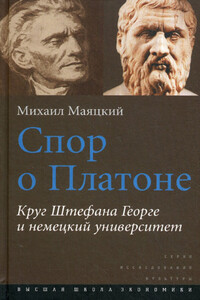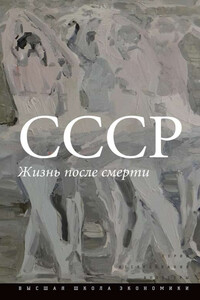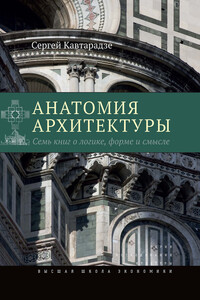Пастиш | страница 48
И текстуальные, и непосредственно контекстуальные (то есть связанные с рамочным текстом) признаки также включают эстетическое суждение. Мой аргумент в отношении «Новостей на марше» частично состоит в том, что и их, и «Гражданина Кейна» можно лучше понять, если считать их пастишем, а не пародией, потому что пастиш лучше ложится на общую тему озабоченности знанием в «Гражданине Кейне». Это само по себе предполагает, что «Гражданин Кейн» — единый текст; в текстах, больше похожих на пастиччо, такое предположение было бы более проблематичным. Многие из последующих примеров могут вызывать некоторые сомнения, как если бы это была только моя прихоть считать «Убийство Гонзаго», «Однажды на Диком Западе», народные танцы в «Щелкунчике» или темы блюза и спричуэл в «Афроамериканской симфонии» пастишем. Так это или нет, будет зависеть от того, насколько убедительные доказательства я смогу привести, но важно и то, насколько рассмотрение этих произведений в качестве пастиша их проясняет, какой интеллектуальный и аффективный смысл помогает из них извлечь.
Глава 2
Пастиш, назвавшийся пастишем
Пастиш — термин, использующийся широко и для всего подряд. Учитывая его общие негативные коннотации, мало кто берется создавать его намеренно, однако есть одна традиция в литературе, которая называет себя пастишем. Хотя рассматриваемый в данной книге круг произведений шире этого понятия, она представляет собой хорошую отправную точку для его исследования: по крайней мере нам не придется мучиться вопросом, правомерно или нет считать то или иное произведение пастишем, раз оно само себя так называет.
Пастиш начал рассматриваться в качестве практики письма и получил свое название во Франции в XIX в., хотя можно сказать, что он существовал и раньше и в других местах[74]. И Октав Дельпьер в 1872 г., и Леон Деффу в 1932 г. вели прерывистую линию его происхождения от древних времен[75], включая, например, Аристофана, создававшего пастиши на Еврипида [Deffoux, 1932, p. 11], и ранних христианских авторов, приспосабливавших под свои нужды Пиндара и Вергилия [Delepierre, 1872, p. 23 ff.]. Жерар Женетт [Genette, 1982, p. 106] делает первым автором пастиша Платона, ссылаясь на то, что многие из тех, кто выступает в «Пире», говорят в стиле известных философов[76]. Все прослеживают развитие этой практики в эпоху Возрождения и далее. Ролан Мортье находит первый «настоящий» пастиш в творчестве Лабрюйера в конце XVII в. [Mortier, 1971, p. 204]. Но само слово начинает употребляться в литературном смысле только столетие спустя, под влиянием, во-первых, мимолетной отсылки к «Салону 1767 года» Дидро, а затем к статье Мармонтеля о пастише в его «Основах литературы» 1787 г. [Hempel, 1965, p. 168–169]. Относительно недавно изданная антология [Caradec, 1971] доходит до Франсуа Вийона (1431–?), а затем возвращается в настоящее, пастиши продолжают создаваться и сегодня