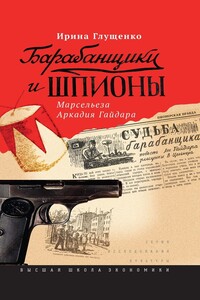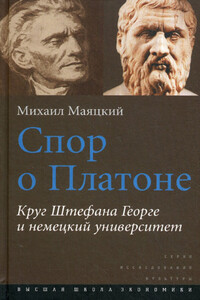Пастиш | страница 47
Пастиш и пародия различаются не только по позиции, но и по характеру их отношений с объектом имитации. Мирелла Билли выдвигает предположение, что, хотя они оба сигнализируют о факте имитации,
пародию можно отличить от пастиша преимущественно по тому, что она подчеркивает различие между двумя текстами… а не их сходство. […] Если пародия трансформативна, пастиш подражателен [Billi, 1993, p. 36][72].
Можно сказать, что, хотя пародию и пастиш можно всегда перепутать с прямой имитацией, с пастишем это может случиться скорее, потому что он формально ближе к тому, что имитирует. Однако, как указывает Ф. Ж. Лельевр, двусмысленность приставки «пара» в слове «пародия» указывает одновременно и на близость, и на противопоставление [Rose, 1993, p. 8][73]; сам факт того, что пародия предполагает «включение пародируемого произведения в собственную структуру» [Ibid., p. 51], ставит ее в зависимость от него, заново его приближает, добивается сопричастности. Возможно, пародия теоретически отличается от пастиша главным образом потому, что противится неминуемой вовлеченности в то, от чего она стремится дистанцироваться, оттого она так истерична — так немилосердна, насмешлива, зла по отношению к своему объекту.
Многие из примеров, обсуждавшихся в этой главе, вращаются вокруг вопроса о маркировке. Это связано и с тем, что сокрытие имеет значение, и с тем, как мы понимаем и реагируем на имплицитный замысел произведения. «Картина» Чарльза Рида могла бы считаться адаптацией, сокращенной версией или переводом, если бы он признал «Мадемуазель де Мальпер» в качестве источника (и заплатил за это). Макферсон мог бы представить Оссиана как вымышленную реконструкцию подлинной, но письменно не зафиксированной традиции. «Оссиановские стихи» Чаттертона могли бы считаться подражательным пастишем, если бы не были представлены в качестве перевода и местами не превращались бы в пародию. «Темнеющая эклиптика» могла бы быть пародией или, возможно, критическим пастишем, если бы не выдавалась за добросовестную экспериментальную поэзию. Точно так же решение вопроса о том, чем считать «Новости на марше», пародией или пастишем, зависит от того, как они маркируются, пусть и неосознанно.
Чтобы судить о том, какая маркировка подходит больше — и особенно для целей этой книги, решать, оправдано ли маркировать что‑то как пастиш, — следует рассмотреть сочетание паратекстуальных, контекстуальных и текстуальных признаков. Паратекстуальные признаки уже обсуждались выше применительно к «Войне миров» и «Каллодену». Их самая очевидная форма — это когда произведение само называет себя пастишем, и это тема следующей главы. Контекстуальные признаки касаются того, что можно узнать о решениях, принятых при создании произведения; там, где, как это часто бывает, пастиш находится внутри другого, большого непастишированного произведения, это произведение может быть особенно важно для понимания пастиша как пастиша. Я применял оба вида контекстуальных признаков в обсуждении «Новостей на марше» и «Гражданина Кейна», и роль более широкого произведения как контекста для пастиша будет рассматриваться в главе 3. Текстуальные признаки, маркеры пастишности в самом пастише, — самая сложная форма признаков. В следующей главе я обращусь к трем формальным элементам пастиша, как они представлены во французском литературном пастише: сходству, деформации и расхождению. Однако они также являются средствами пародии (как это видно в моем обсуждении «Brass Eye» выше). Различие часто и наглядно может быть различием в степени (пастиш больше походит на свой референт, в нем меньше преувеличения, меньше отклонения), но иногда вопрос сводится к тому, как одни и те же средства работают, если рассматриваются (по пара- и контекстуальным признакам) как пародия или как пастиш.