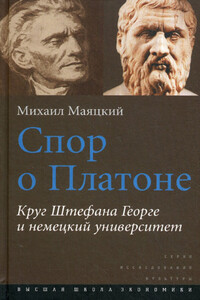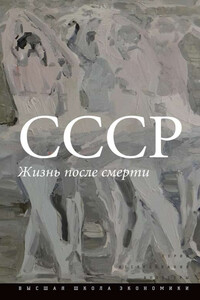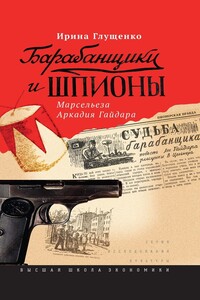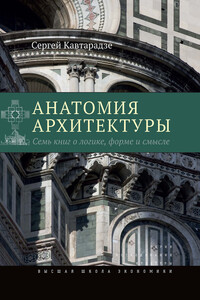Пастиш | страница 35
Явная, обозначенная, оценочная имитация
Все имитации должны предполагать оценочное отношение: сам акт имитации подразумевает, что, по крайней мере, имитируемое произведение достаточно значимо, раз его взялись имитировать. Кроме того, формы имитации, рассматривавшиеся выше, могут использоваться для выражения оценки того, что они имитируют: розыгрыши или переделки, о которых говорилось выше, например, явно критически относятся к тому, что имитируют. Однако оценочность для них непринципиальна; только у оммажа, пародии и их родственников оценка неизбежно встроена в саму форму.
Подражание и оммаж
Подражание (emulation) и оммаж выражают восхищенное отношение к тому, что они имитируют. Они рождаются из разных культурных предпосылок: подражание естественным образом равняется на предшественников, тогда как оммаж — осознанный акт выражения благодарности в культуре, в которой это не является нормой.
Подражание
Подражание было основополагающей эстетической практикой в западной классической традиции. Лонгин (I в. н. э.)[51], следуя, по его собственному признанию, совету Платона, рекомендует «подражание великим писателям и поэтам прошлого», поскольку от величия древних писателей какие‑то дуновения проникают в души их подражателей, будто возносясь из священных дельфийских расщелин. Люди, даже не очень одаренные природой, вдыхая их, приобщаются к величественному [Longinus, 1965, p. 119; О возвышенном, 1966, с. 29].
За столетие до него Гораций также призывал начинающих поэтов «дни и ночи напролет изучать греческие образцы» [Horace, 1965, p. 88], а Квинтилиан, который был почти современником Лонгина, составил список авторов, которых должны читать начинающие ораторы.
Связь произведения с его предшественниками в подражании очевидна, но цель подражания не в ней. Скорее, предшественников имитируют, чтобы попытаться достичь того же, что достигли они. Гораций следовал за Аристотелем, считая целью искусства мимесис (подражание природе), но лучше всего этому можно научиться, следуя примеру тех, кто лучше всего делал это до вас. Лонгин приводит тот же аргумент для достижения возвышенного[52].
Эта динамика действует в средневековой ближневосточной поэзии, судя по описаниям Александра Куделина, который, однако, объясняет ее, скорее, в категориях соперничества и соревнования. Здесь поэт «не просто имитатор, последователь, он — соперник предшественника» [Kudelin, 1997, p. 59]. (Нечто подобное можно усмотреть в замечании Лонгина о том, что Платон не смог бы так хорошо писать, «если бы душой и сердцем не боролся за первое место с Гомером» [Kudelin, 1997, p. 120].) Понятие эстетического соревнования играло центральную роль в системе такой средневековой литературы, и истоки его были в идее вечности художественного сознания: то, что было хорошим и прекрасным в прошлом, хорошо и прекрасно и сегодня. Поэты стремились перещеголять своих предшественников, сочиняя стихи по их образцу, но это не следует понимать как эдипальный конфликт поколений, который вслед за Фрейдом усматривали интерпретаторы западной культуры (в частности, [Bloom, 1973]). Во‑первых, у этих поэтов не было желания обратить своих эстетических соперников в бегство, скорее они хотели «мирного сосуществования» между авторами-предшественниками и авторами-последователями, их соперниками [Kudelin, 1997, p. 61]. Во‑вторых, всегда подразумевалось, что на самом деле превзойти своих предшественников невозможно, потому что, подобно им, автор устремлен к трансцендентной, абсолютной цели, которая не может быть достигнута.