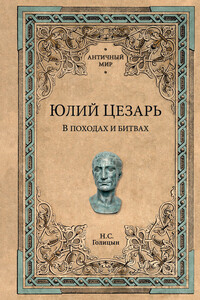История афинской демократии | страница 30
«Драконтова конституция» представляет много сходных черт с теми олигархическими проектами, которые были распространены в Афинах в конце V в., в последний период Пелопоннесской войны. Она как бы выражает стремления и идеалы тогдашних афинских олигархов. Наконец, ее описание в Аристотелевом трактате плохо связано и не совсем согласуется с предыдущим и последующим текстом, пришито, так сказать, белыми нитками.
Поэтому мы склоняемся к выводу, что описываемая в «Афинской политии» «Драконтова конституция» есть анахронизм, что описание это заимствовано из какого-либо олигархического источника конца V в. и составляет вставку, принадлежащую даже не Аристотелю[29].
Но как бы мы ни смотрели на Драконта, будем ли мы видеть в нем реформатора политического или нет, несомненно, что социально-экономических отношений он не коснулся. Между тем положение массы земледельческого населения в Аттике тогда было тяжелое. Помимо того «корыстолюбия и высокомерия» знатных, о котором говорит и Солон в своих стихотворениях, оно вызывалось, как мы видели, и более глубокими, общими причинами – тем кризисом, который происходил тогда в экономической жизни Греции вследствие перехода от натурального хозяйства к денежному, развития торговых сношений, привоза дешевого хлеба из других стран и проч. Многие земельные участки были заложены; на них ставились своего рода ипотечные знаки, закладные столпы (οροί) с обозначением имени заимодавца и суммы долга. Число независимых мелких собственников уменьшалось.
«Государственный строй Афин был тогда во всех отношениях олигархический», – говорит Аристотель в своей «Афинской политии». «Бедные были в кабале у богатых сами и дети их, и жены. Назывались они пелатами и гектеморами (т. е. шестидольниками), «ибо за эту долю они обрабатывали поля богатых – вся же земля была в руках немногих – и в случае неисправных взносов обращались в рабство, и сами, и дети их. Займы заключались тогда под залог тела (т. е. личности), и так было вплоть до Солона, который первый явился простатом демоса. Тяжелее всего для большинства было находиться в кабале, но оно и всем остальным было недовольно, ибо ни в чем не имело доли». Выходит, что причины тяжелого положения массы и ее недовольства, по Аристотелю, были двоякие: политические – олигархический строй и обусловленное этим полное бесправие демоса – и социально-экономические.
В общем, такая же картина тяжелого положения земледельческого населения рисуется и у Плутарха. В то время, говорит Плутарх в биографии Солона, неравенство между богатыми и бедными достигло высшей степени, государство находилось в опасности и казалось, что только с установлением тирании можно восстановить спокойствие и прекратить смуту, ибо весь демос находился в долгу у богатых. При этом у Плутарха этот обремененный долгами демос разделяется на две категории: во-первых, на гектемориев (или гектеморов) и фетов, которые обрабатывают землю для богатых, платя, по словам Плутарха, «шестую часть» сбора, и, во-вторых, на лиц, которые, беря взаймы под залог «тела», становятся рабами своих заимодавцев в случае неуплаты долга. «Многие принуждены были продавать даже собственных детей, – продолжает Плутарх, – ибо ни один закон не запрещал этого – и бежать из государства вследствие притеснений заимодавцев. Большинство же – и притом наиболее энергичное – собиралось и призывало друг друга не терпеть долее такого положения, но, избрав вождем надежного человека, освободить должников, поделить землю и совершенно изменить строй государства».