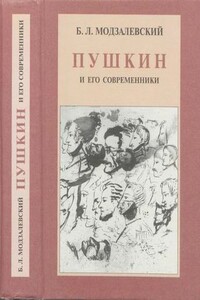Перекрестное опыление | страница 38
Геннадий Федорович Комаров – сильный человек, можно даже сказать, могучий, и я, услышав от одного из его друзей, что их общему приятелю он на проводах в армию из лучших побуждений поломал ребра, не удивился. Эта сила в Геке соединена с самой обыкновенной готовностью всем и каждому споспешествовать, всем помогать и всех спасать. Хотя эти две вещи нечасто сходятся в людях, пока подобное случается, веришь, что еще не конец, что жить все-таки можно. Можно жить в стране, в городе, на этой улице и в этом доме – все это ты отчетливо понимаешь, даже когда давно с Геком не виделся, не выпивал, пусть и по телефону – не разговаривал.
Петербург исключительно красивый город, вдобавок все в нем изваяно из камня, то есть сделано на века. Конечно, лепнина с годами обваливается, ветшают, идут трещинами фасады, да и внутри текут трубы, остальная начинка в такт с ними гниет, но все это в общем и целом можно подновить, подлатать, в крайнем случае, отреставрировать. Только во время большой войны понимаешь, что город тоже хрупок, а так за архитектуру я, пожалуй, спокоен.
Другое дело – люди, которые жили в этих домах и в этих комнатах, здесь работали, ели, спали, здесь музицировали, читали стихи и вели умные разговоры, встречали друзей и ходили к ним в гости. Здесь флиртовали, любили, зачинали детей, на тех же постелях и умирали, когда выходило их время. Тут, если бы было как положено, как велось испокон века, их еще долго, не один десяток лет, должно было помнить всё – даже стены, и всё поминать – так вот с этим как раз полный швах.
Последние сто лет люди умирают или уезжают и с их уходом то, что было им важно, выбрасывается с таким рвением, а потом для стерильности уже голые полы так тщательно протираются тряпкой, что не остается ни следа. Стоит за человеком закрыть дверь, как неприлично быстро исчезает то, как он думал и как говорил, как понимал мир и как к нему относился. Как и какие слова ставил рядом друг с другом, что подчеркивал голосом или жестом, а что, наоборот, пропускал или, будто невзначай, прятал в тень. Уходит его интонация и его ирония, умение слушать другого человека или, напротив, при необходимости умение его не замечать.
В нашей стране, где почти целый век мы, в сущности, были бомжами, перекати-полем, кочующими по городам и весям номадами, которые, если по недоразумению где и пустили корни, приросли к месту, тут же, понимая, что это вопрос жизни и смерти, как Мюнхгаузен, сами себя выдергивали, выпалывали, а затем так ровняли площадку, что никому бы и в голову не пришло, что на этом месте раньше что-то росло. В стране, где со времен Первой мировой войны люди жгли в буржуйках письма и дневники – сначала, чтобы согреться, потом из-за того, что воленс-неволенс приходилось выбирать между уже прошедшей жизнью, памятью о ней и шансом жить дальше. Ты бежал, беря с собой еду, теплые вещи, какие-то ценности, если они у тебя, конечно, были, а остальное без особой жалости отправлял туда же, в буржуйку. Все это были якоря, путы, которые держали, стреножили, в любой момент могли утянуть тебя на дно.