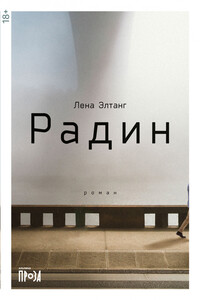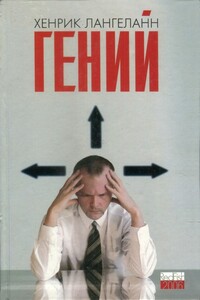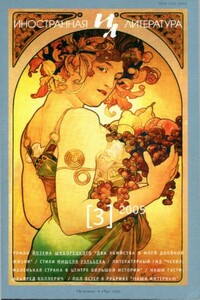Картахена | страница 48
Жаль, что старуха ушла, я бы с ней до утра просидел. Люблю таких хмурых с виду женщин с оглушительным смехом, который вываливается из них внезапным образом, будто Петрушка из своего кулька. В наших краях они повывелись, а в Италии еще попадаются. Она смеялась, будто обкуренная школьница, хотя говорили мы, в сущности, о невеселых вещах: о том, что парк зарастает бурьяном, о том, что в море в этом году полно медуз, а рыбы совсем нет, о том, что летом ей стукнуло шестьдесят, а жить совершенно не на что и придется, видно, работать до гробовой доски.
Спалось мне тревожно и холодно, в парке ухали совы, а где-то в низине еще и лягушки трещали, будто ножницами по пенопласту, к тому же бренди давало себя знать, и пару раз мне пришлось встать и углубиться в заросли волчьей ягоды. Наутро я почувствовал жажду и спустился по тропинке к ручью. Ручей остался на месте, хотя гладких булыжников было не видать, их поглотила зеленая замша мха, и вода сквозь них сочилась теперь тонкой струйкой, а не падала с грохотом, как раньше.
Раздевшись по пояс и умывшись ледяной подземной водой, я пожевал еловой хвои, забрал в павильоне свой рюкзак и направился к отелю. Мне нужно было выпить кофе — Пулия сказала, что до десяти утра это можно сделать на кухне, — потом побриться где-нибудь, найти управляющего и посмотреть на инструмент.
В рюкзаке у меня была чистая рубашка, мои волосы высохли на утреннем солнце, ветер шумел в елях высоко над моей головой, мелкая галька хрустела под ногами, похмелье отступало, мне было тридцать лет, и я был во всеоружии, оставалось только выйти на главную аллею и показать себя отелю «Бриатико».
Я знал, как все будет: тосканец поведет меня во флигель, где стоит запакованный в пузырчатый пластик August Foerster, поднимет с пола забытую кем-то из рабочих стамеску и одним движением вскроет пластик над клавиатурой, небрежно, будто банку сардин, белая крышка рояля сверкнет в полумраке, пузыри упаковки вздыбятся над нею, лопаясь один за другим; осторожно! — не выдержу я, и тосканец разинет рот и засмеется, гулко, будто бухая сапогами по лестнице.
Я сяду на запачканную краской табуретку и сыграю ему чакону Баха, единственное, что я помню наизусть, ведь я не садился к инструменту двенадцать лет. Старички станут просить шансон или Пресли, предупредит он меня, поглаживая усы, здесь ведь нет никого моложе семидесяти. Зато у нас сестрички юные, выращенные на козьем молоке, и все, как одна, родились после падения Берлинской стены, скажет он, но тебя это не касается, парень, на работе мы не блудим.