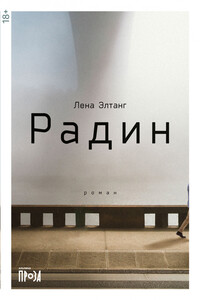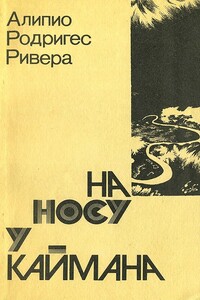Картахена | страница 16
В мокасинах Маркуса хлюпала вода, и он решил снять их и вынести на солнце. Парень за конторкой встрепенулся, помотал головой и показал на коридор, уходящий влево от двери комиссарского кабинета. Потом он нарисовал в воздухе моток туалетной бумаги, ловко его размотал и набил ей воображаемую туфлю. Почему итальянцы разговаривают с иностранцами как с глухими, думал Маркус, идя по коридору, в конце которого белели две одинаковые двери. Неужели мой итальянский за шесть лет так запаршивел?
На одной двери висела табличка «Окрашено». За второй дверью была служебная комната с печкой, вернее, кладовка, заваленная бумагой. Картонные папки лежали даже на подоконнике. Это были старые дела, предназначенные, вероятно, для сдачи в архив, а некоторые — просто в мусор, судя по тому, что они были свалены возле бумагорезательной машины. Маркус вспомнил, как она называется: taglierina a ghigliottina.
Он вошел, повернул ключ, оказавшийся внутри, снял куртку и повесил на щеколду окна. Возле машины стояла початая бутылка с вином, оплетенная соломой, Маркус отхлебнул из нее, сел на пол и принялся набивать разбухшие мокасины настриженной бумагой.
Закончив с этим, он взялся разглядывать папки, сложенные в гору: одни были потертые, другие поновее, с железными скрепками. Рядом лежали стопки канцелярских бланков, перехваченные синими резинками. Дорожные штрафы, подумал Маркус, урожай проворного сержанта. Эта мощеная площадка возле кладбища — его скромное сезонное дело, приносящее верный доход.
Цифры на бланках показались ему странными: двадцать тысяч, сорок тысяч, но, присмотревшись к датам, он понял, что деньги взимались в лирах. Потянув за самую толстую папку, он нарушил равновесие холма, и тот рассыпался. На папке было написано: «La stazione di polizia, 1989». Вот бы с ходу вытащить весну две тысячи восьмого. Досье Аверичи, например, или дело о смерти капитана. Нет, не с моим счастьем.
Восемьдесят девятый, надо же. За десять лет до его приезда в эти места. В восемьдесят девятом он учился в шестом классе, за голову Рушди объявили награду, умер фон Караян, на стадионе «Хиллсборо» погибли девяносто шесть ливерпульцев, а в Японии началась новая эра — Хэйсэй.
Петра
Птица, которая забывает, куда лететь, и отстает от стаи, — где она приземляется? Остается ли она зимовать в холодном краю? Первые несколько лет после ухода отца мать казалась мне такой птицей — бессильной и оцепеневшей, будто свиристель, объевшийся ледяной рябины. Потом я привыкла. Прошло еще несколько лет, и стало казаться, что отца и вовсе не было. Мама тоже немного отогрелась. Плечи и руки у нее стали полные, кольцо врезается в палец, а губы расправились и порозовели.