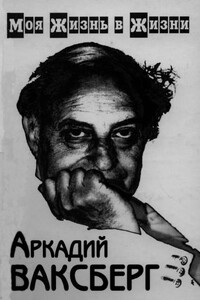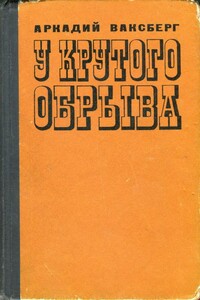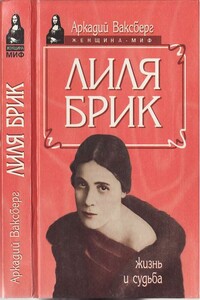Ваксберг А.И. Моя жизнь в жизни. В двух томах. Том 1 | страница 42
Первый день, проведенный ею в качестве уголовного защитника, был и последним. Весьма популярный тогда прокурор Ненарокомов, имя которого не раз встречается в исторической литературе, решительно отказался вести поединок с женщиной-адвокатом и покинул зал заседаний. Процесс сорвался.
Мельчайшее, вполне ординарное дело о краже бильярдных шаров, которое должно было стать профессиональным дебютом молодой адвокатессы, привлекло к себе, благодаря этому скандалу, внимание крупнейших столичных и провинциальных газет. «Биржевые ведомости», «Речь», «Русское слово», «Петербургская газета» — все они неделями и месяцами обсуждали перипетии чрезвычайного факта, ставшего предметом жарких дискуссий в Государственной Думе. О вознамерившейся стать адвокатом Екатерине Флейшиц писали и высказывались с публичных трибун такие разные деятели, как министр юстиции Щегловитов (по прозвищу «Ванька-Каин»), мракобес, черносотенец и хулиган Владимир Пуришкевич — с одной стороны, и сенатор Анатолий Федорович Кони, страстный поборник женского равенства на адвокатском поприще, — с другой.
Сама Екатерина Абрамовна с юмором относилась к тем, давно отшумевшим баталиям, отвергая прочно укрепившееся за ней звание первой русской женщины-адвоката. «Я была первой, — говорила она мне позже, когда наши отношения уже перестали быть отношениями студента и профессора, — кого выгнали из адвокатуры. Ни одного слова мне сказать в зале суда так и не дали». Особенно ее забавляла аргументация, которой пользовались гонители. В законе было сказано, что адвокатом может быть «лицо, имеющее высшее юридическое образование». Лицо, а не — «мужчина или женщина»! Отсюда делался странный филологический вывод: «лицо» слово хоть и среднего рода, но употребляется в законодательстве лишь применительно к мужчинам. Никакого другого толкования грамотеи типа Пуришкевича и его банды признавать не хотели.
У Екатерины Абрамовны было еще одно первенство в российской истории. Она действительно стала первой женщиной, получившей в нашей стране степень доктора юридических наук. Произошло это в 1940 году, а годом позже ее диссертация была издана с грифом «для служебного пользования» — ни в продажу, ни в библиотеки она не поступила. Тайна, в ней содержавшаяся, и впрямь была значительной, а раскрытие ее могло нанести непоправимый ущерб государственным интересам. Называлась диссертация так: «Личные права в гражданском праве Союза ССР и капиталистических стран». Личные права — то есть право на имя (в прямом и переносном смысле), право на честь и достоинство, право на репутацию… Их защита в судебном порядке… Для публики — вполне очевидная крамола: какие оговорки ни делай, из диссертации с непреложностью вытекало, где и какие личные права существуют, а где их нет и не может быть.