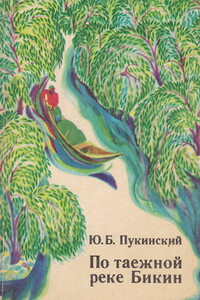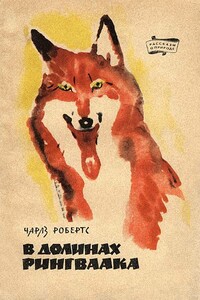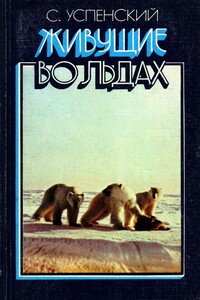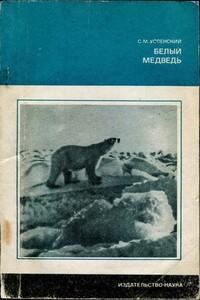К востоку от Берингова пролива | страница 21
В августе гостей здесь ждет красочное представление под открытым небом — «Крик дикого барана», воссоздающее жизнь на Аляске главного правителя Русской Америки Александра Андреевича Баранова. Я не видел этого спектакля и сказать, насколько показанное в нем достоверно, не могу. Но судя по описаниям, в нем бывает занято больше ста самостоятельных артистов, а действие щедро насыщено пушечной стрельбой, бряцанием холодного оружия, дымом пожаров.
Вотчина «полярного микроба»
Север и северо-запад Аляски занимают склоны хребта Брукса и примыкающая к нему приморская низменность. Это уже Арктика и Субарктика, и к ним относится около трети территории штата. Лесов в полном смысле слова здесь нет, но кое-где еще можно встретить не только заросли ивняков и ольшатника в рост человека, но и островки приземистых елок.
Летом в этой части Аляски — полярный день с не заходящим за горизонт солнцем, хлюпающие под ногами тундровые болота, тучи комаров. Зимой — долгая полярная ночь, прихотливые узоры полярных сияний в небе, морозы и пурга, прочные, как бетон, снежные заструги. Край этот суров, но не лишен своеобразной красоты и обаяния. Недаром говорят о «полярном микробе»: он якобы поражает многих из побывавших под полуночным солнцем и влечет потом сюда человека вновь и вновь.
Впрочем, несмотря даже на происки микроба, еще недавно это была наименее заселенная человеком часть Аляски. Население тундровой глубинки составляли немногие семьи, да и на побережье ютилось лишь несколько эскимосских поселков. Кормила здешних эскимосов главным образом охота на песцов, северных оленей, морского зверя. Однако теперь здесь становится людно и шумно. На севере Аляски началась добыча нефти, поднялись буровые вышки, выросли новые поселки. Отсюда протянулся к югу Трансаляскинский нефтепровод, вдоль него пролегло шоссе. Сюда летают большие самолеты. Появились и толпы туристов, и среди диковин, обещанных им красочными проспектами и путеводителями, значатся представления, которые по заказу разыгрывают перед ними эскимосы, зачастую уже больше актеры, чем охотники.
Приближалась середина сентября, и сюда, к мысу Барроу, уже подкралась осень. Осыпались побуревшие листики полярных ив. Поблекшие стебельки трав за ночь посеребрились инеем, И утреннее солнце, низкое и холодное, так и не сумело его растопить.
Ломая звонкие корочки льда на лужах, я шел по тундре. В одном месте из-под моих ног выскочил лемминг, золотисто-рыжий и юркий, как солнечный зайчик (в Америке его называют коричневым, у нас — сибирским). Пробежав немного, он скрылся в ближайшей норке. Затем встретился выводок пуночек. Молодые уже хорошо летали, и птицы с негромким писком перепархивали с луговины на луговину. Незаметно для себя я очутился на морском побережье. Море, все в матовых мазках шуги, едва дышало. Лениво лизали гальку волны, серые и тяжелые, будто расплавленный свинец. Жизнь здесь была Гораздо богаче, чем на суше. Стайками пролетали гаги-гребенушки и сибирские гаги. Проплывали в воздухе чайки. Под самым берегом, на мели, как в вальсе, кружились кулички — плосконосые плавунчики, а подальше на воде виднелась круглая, похожая на мяч, блестящая нерпичья голова.