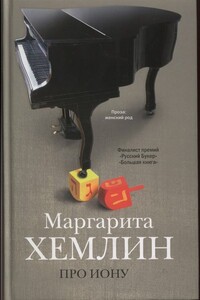Такая жизнь | страница 59
— Ну, я пошел.
А куда — спросить не смей. То придет ночевать, а то нет. Анфиса Максимовна ходит босая к парадной двери, каждый шаг на лестнице слушает: нет, не он. Не выспится, встанет разбитая, а ей на работу. Вечером вернется Вадим — и сразу дерзить. После какой-нибудь очень уж обидной дерзости трясутся у нее руки, и начинает она, что называется, психовать. Не жалко ей ничего, кидает вещи. Раз целую стопку десертных тарелок на пол бросила. Испугался Вадим, но оправился, усмехнулся презрительно и пошел по осколкам.
Иногда Анфиса Максимовна говорит Вадиму:
— Ну, давай с тобой жить по-человечески, по-хорошему.
— А я что? Я ничего, — отвечает Вадим. — Я по-человечески живу.
Анфиса жалуется Ольге Ивановне (опять между ними дружба):
— Презирает он меня, ох, презирает!
— За что же ему вас презирать?
— А за это самое, за Василия.
— Мерзость это и гадость — его презрение, — говорит Ольга Ивановна и поджимает губы. Наверно, чувствует, что и ее саму Вадим презирает. Ольга Ивановна Вадима теперь разлюбила. Даже Ада-стрекотуха стала его побаиваться: больно жесток.
А ей, Анфисе, сын — всегда сын.
…Нет, я не разлюбила Вадима, чем-то он мне был дорог все-таки. Слишком много я в него вложила, чтобы так, без борьбы его уступить.
А вина была моя. После того как он начал ходить к Аде Ефимовне, я на некоторое время из дурацкого своего самолюбия оставила его в покое. Не хочет — не надо. Тут-то я его и упустила. Потом спохватилась, но поздно. Ушел человек. Так и не удалось мне к нему пробиться.
Иногда я его приглашала к себе. Он отказывался, говорил: «Некогда». Если я очень уж настаивала, заходил, садился на краешек кровати и говорил: «Ну?» Значило это: начинайте, так и быть, свои фокусы.
Пыталась я с ним говорить о школе, о жизни, о книгах… На все он усмехался презрительно, отчужденно. Новое словечко у него появилось: «пирамидон». Так назывались у него высокие слова, нежные чувства, понятия «совесть», «долг», «доброта»… Скажешь ему что-нибудь, а он прищурится и этак врастяжечку, отчетливо: «Пи-ра-ми-дон».
Особенно не любил он разговоров о книгах: они ему напоминали школьные уроки литературы, где, с его точки зрения, был сплошной «пирамидон». Литературу у них учили «по образам», и ненавидел он их до зубовного скрежета.
— На кой мне образ Лизы Калитиной из «Дворянского гнезда»? Наплевать мне на это гнездо вонючее… Она «ах», он «ох», она в монастырь — бух, а я учи!
Я пыталась как умела ему растолковать глубину и прелесть русской литературы, говорила сбивчиво, искала слова, все время боясь впасть в «пирамидон» и все-таки в него впадая… Ведь плакала же я в юности, читая Толстого, Тургенева, — неужели нет у меня средств передать другому эти слезы, этот восторг? Вадим глядел с усмешечкой. Когда я замолкала, он спрашивал иронически: