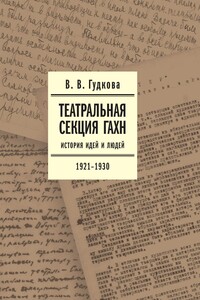Рождение советских сюжетов. Типология отечественной драмы 1920–х — начала 1930–х годов | страница 60
Нашедший клад в деревенском колодце Мочалкин спрашивает у односельчан: «Что бы вы на моем месте стали делать с им?»
Красноречива реакция пораженных односельчан, «коллективного героя», обозначенного драматургом как «народ».
Народ: «Мы?.. Вот чудак. Спрашивает. Мало ли кто что стал делать. Ха. Я бы на его месте сошел с ума. И он сойдет».
Мочалкин отдает слона в колхоз.
Мнения народного «хора» расходятся в оценке поступка героя:
«Молодец Гурьяныч. Ну и дурак! <…> Памятник поставить!»
Драматург делает анекдот пружиной комедии: Мочалкин за ночь строит «дирижабель» и на глазах всей деревни взвивается ввысь.
{93} С конца 1920-х годов в пьесах на крестьянском материале появляется заново актуализировавшееся слово: «кулак». Существовавшее в русском языке и раньше, теперь оно превращается в слово-приговор. Клеймо «кулака» делает ненужными какие-либо дополнительные разъяснения сущности персонажа. Замечу, что закрытая для публичного обсуждения тема «Навсегда ли колхозы?» звучит в пьесах еще и в 1935 году: «Колхозы не отменяются?» — с плохо скрытой надеждой спрашивает колхозник Чекардычкин (Чижевский. «Честь»).
В пьесе Киршона «Хлеб» коммунист Михайлов едет в деревню за продналогом. Он должен выполнить план по сбору семенного зерна в тех деревнях, в которых сбор уже прошел. Но хлеб у крестьян еще остался, так как деревня крепкая. («У кулаков отнять. Деревня кулацкая».) Рискованные вопросы о происходящем в сцене сельского схода задают лишь те, у которых уже отобрали право голоса («но язык не оборвали»), — «лишенцы». Прочие же осмотрительно молчат. Героя-«кулака» не спасает и то, что его сын безвозмездно отдает государству сто пудов хлеба, отправляя «красный обоз».
Примерно в это же время в пьесы входит и тема «вредительства». Кроме козней «кулаков» она может быть связана еще и с фигурой счетовода (бухгалтера), то есть грамотея, крестьянского интеллигента.
На них списываются просчеты переустройства деревни: это счетоводы обманывают колхозников при начислении трудодней.
Здесь проявляется, по-видимому, недоверие к «грамоте» у героев-сельчан, и не только у них. «Товарищ Сталин указал, что кулаки в счетоводах», — сообщает сменивший прежнюю фамилию на новую счетовод Пролетариев, отрекшийся от отца-попа.
Пролетариев жульничает с начислением трудодней и прячет учетные книги. (В колхозе на трудодень приходится 2 руб. 41 коп., а к получке после вычетов — всего по 14 коп., т. е. за целый год работы колхозник получает по 39 р.) Крестьяне возмущены, и Пролетариева выводят на чистую воду (Чижевский. «Честь»)