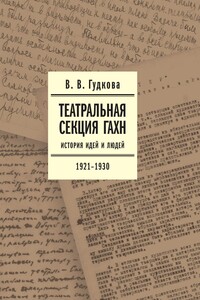Рождение советских сюжетов. Типология отечественной драмы 1920–х — начала 1930–х годов | страница 6
Но эти сценические шедевры многое и объединяло.
То, что они были нетрадиционны для русской сцены, далеки от психологизма МХТ и содержательно (театрально) двуязычны.
{14} То, что яркие лидеры театральных течений на первый план выдвигали актера, то есть режиссерская концепция опиралась на индивидуальность, проявлялась через нее.
То, наконец, что данные спектакли дистанцировались от окружающей реальности: все три пьесы были не русскими, что само по себе давало некую отстраненность от материала.
Мейерхольд парадоксально проявлял личность героя через униформу; Таиров размышлял о гибельности хаоса, эстетически гармонизируя само нарушение гармонии; сложный Вахтангов предъявлял обманчиво «простого» актера, играющего другого (словно в детской игре «как если бы»).
На фоне начинающегося разливанного моря агиток, лозунговости, то есть утилитарности сцены, эти творения вырывались в четвертое измерение — время творчества, игры, свободы. Во всех трех работах был отринут сценический реализм как завоевание XIX века, какое-либо бытовое правдоподобие. Пульсировала энергия высвобождения человека играющего.
Но вскоре государство отвердевает, его призывы и цели обретают внятную форму. Четко очерчивается приемлемое и неприемлемое. И когда в середине 1920-х в театр приходит новое поколение драматургов, посторонним, нетворческим инстанциям и лицам понятно, что и почему годится, а что нет, в каком направлении редактировать принесенные сочинения, создание какого рода пьес следует инициировать. К этому времени начато реальное формирование нового, советского российского театра. Уже прозрачен прогноз о том, что идея волевого изменения психики человека (в любом заданном направлении) несостоятельна. Но заданная рабочая концепция героя не уходит. Историко-культурное переустройство страны ускоряет темпы. «Дело <…> в том, что двадцатые и тридцатые годы — это целые эпохи, с новыми людьми, новыми книгами, и переходы совершались резче, чем это можно предположить. Административно и вместе с тем органично»[9].
В новых условиях драматургия оказывается максимально востребованной: при отсутствии радио идеи в массы несут многочисленные театры и театрики — рабочие, колхозные, красноармейские, нехитрые клубные сцены, синеблузники и проч. В одной только Москве работают десятки театров во главе с крупными {15} и не очень режиссерами[10]. О соотношении количества (и качества, уровня подготовленности) публики сообщается: «Московские театры <…> охватывают в течение года не свыше 1 000 000 зрителей, провинция (включая Ленинград) обслуживает около 10 млн зрителей, а самодеятельный театр, насчитывающий до 14 000 клубных площадок и до 30 000 — деревенских, имеет дело не менее как с 90–100 миллионами зрителей, притом с наиболее социально-ценным их контингентом»