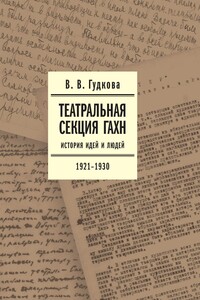Рождение советских сюжетов. Типология отечественной драмы 1920–х — начала 1930–х годов | страница 54
«Жизнь наша сейчас — одна фантазия! <…> Сегодня явились ко мне наши „велосипедисты“: „Пожалуйте, налог уплатить“ <…> а я галантно улыбаюсь и говорю: „Вы что ж это, беспризорной воблой гулять меня по тумбочкам посылаете? Я ведь не по своей, а по вашей воле красным купцом сделался“. — Смеются. — „Нам, — говорят, — вас теперь больше не нужно. Теперь новая политика: купцов вон, а чтоб одна кооперация была!“
Жизнь наша не жизнь, а просто землетрясенье. <…> Главное <…> мы, купцы, как комсомолки — нам терять нечего. <…> товару у ней [нынешней девицы. — В. Г.] никакого, торговать нечем, а только видимость одна, что девица. Так и мы:
Ну какое может быть горе <…> в наше время? Собственности никакой. Значит, без заботы, что украдут или пропадет. Делов никаких. Значит, живи без ответственности…»
Чуткая к общественным веяниям прожигательница жизни Рита Керн, героиня «Воздушного пирога» Ромашова, понимает: «Все равно завтра всех вас погонят в три шеи! <…> Разве вы не чувствуете, что жизнь нарочно вас вызвала, чтобы вы поиграли и ушли?»
{86} Нэпман Петр Лукич Панфилов (в «Ржавчине» Киршона и Успенского) внимательно присматривается к новой среде и не может не видеть ее нескрываемую враждебность: «Наррркомфин против тебя, Эррркаи против тебя, пр-р-офсоюз против тебя, ррабкорр против тебя, а у тебя, Панфилова, ручки голые и… бежать некуда. <…> Жить сумей, жить сумей в этой клетке!»
Поэтому в зависимости от того, куда и зачем он отправляется, он совершенно по-актерски меняет образ: в грязных сапогах и поддевке — на базар, в подержанном пальтишке и красноармейской фуражке — в финотдел. В трест, подряд брать — «одет хорошо. На голове фуражка — инженер…». Его хамелеонство вынужденно, оно его не радует, это лишь способ выживания. «Нет меня — личности нет. <…> Савва [Морозов — В. Г.] так тот у всех на виду был. А Панфилов где? Кто панфиловское лицо знает? <…> И вот жив, живу».
(Мотив переодевания как социальной мимикрии устойчив и широко распространен в пьесах этого периода. По-актерски меняют облики Аметистов в «Зойкиной квартире» Булгакова, Цацкин в «Товарище Цацкине и К>о» Поповского и др.).
На предложение литератора написать о нем Панфилов отвечает: «Хочешь, чтоб я, Панфилов, жил? Молчи обо мне! <…> В природе меня нет». (Иначе толпа присматриваться станет, ведь каждому интересно: «что же этот растреклятый нэпман Панфилов делает?»).