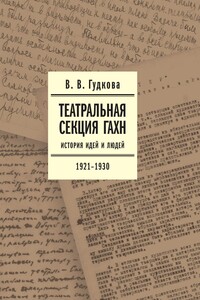Рождение советских сюжетов. Типология отечественной драмы 1920–х — начала 1930–х годов | страница 50
Актрису Гончарову, только что приехавшую в Париж, с легкостью разыскивает посланник Москвы Федотов. Пытаясь найти защиту, Леля кричит: «Он большевик! Он агитатор. Он агент ГПУ»[78].
«А может быть, я специально приехал убить тебя», — рискованно бравирует откровенностью тот же герой, чекист Федотов, в диалоге с бежавшим за границу недавним сотрудником советского консульства в Париже Долгопятовым («Список благодеяний», ранние варианты).
Множество пьес 1920-х годов оканчивается появлением агентов ГПУ. Арест персонажей в дидактическом финале превращается в каноническую, типовую норму развязки сюжета.
Действие может завершить подобная ремарка:
{80} «… Группа красноармейцев. Впереди сотрудник ГПУ. Общее изумление. Испуг. Фигуры застыли в самом невероятном переполохе.
Сотрудник ГПУ. Граждане! По приказанию Прокурора республики вы арестованы. Попытки к бегству бесполезны: здание оцеплено. Прошу сохранять полный порядок».
Аналогична вышеприведенной финальная ремарка пьесы Майской «Случай, законом не предвиденный»: «Входят <…> управдом с домовой книгой, два милиционера, уполномоченный Угрозыска и два агента». Героиня пьесы комсомолка Луша гордится по праву: «Советская власть — сторожевой хороший».
В финале «Зойкиной квартиры» героиня, Зойка, пытается протестовать: «… все эти негодяи бежали! <…> Вы, ловкач в опилках, кого же вы берете? Вполне приличного человека…»
«Как это можно бегать? Что вы? Куда ж это они убегут? По СССР бегать не полагается», — парирует сотрудник ГПУ, арестовывая посетителей арбатского борделя.
Еще более выразительна простодушная авторская ремарка пьесы «Добрый черт» Д. Синявского: «Режиссер должен поставить в толпе выходящих [зрителей. — В. Г.] сценки, характерные для того времени. Кого-нибудь арестовывают, обыскивают».
Итак, среди мотивов главных и второстепенных, тем обязательных и факультативных, проблематика персонажей-чекистов в формирующемся каноне советского сюжета 1920-х годов играет роль непременной, стержневой.
Нэпман (нэпач)
Нэп представлял собой «отлив революции», «ее спуск на тормозах от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности…»[79].
Перемена политического курса страны незамедлительно отозвалась и на процессах художественных. «После военного коммунизма театр стал ареной художественной контрреволюции: театральная улица ворвалась на сцену и властвует ею… — возмущен критик. — <…> Никогда буржуазия не стояла так близко {81} к театру, как в наши дни. <…> Театр вышел на улицу, не стесняемый никакими предрассудками и предупреждениями…»