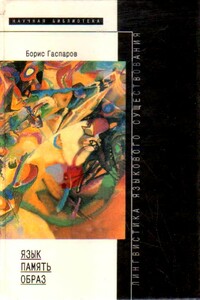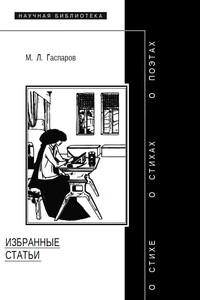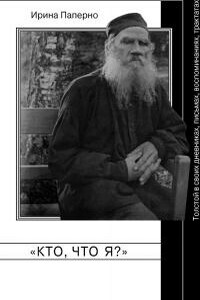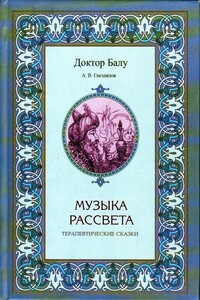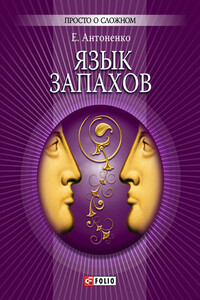Самоубийство как культурный институт | страница 78
Самоубийство и классицизм: мертвые языки
На страницах русской печати самоубийство неоднократно связывалось с классическими языками. Популярной темой были утверждения, что гимназические требования по латинскому и греческому языкам ответственны за самоубийства среди учащихся. Этот аргумент имел идеологическое значение: в эпоху реформ классическое образование подвергалось критике как оторванное от жизни, а преимущество отдавалось другому, более демократическому и практическому, так называемому «реальному» образованию. Немало внимания было уделено одному случаю: в январе 1871 года подросток, готовившийся к поступлению в пятый класс классической гимназии в Казани, Платон Демерт, «постоянно с утра до ночи корпевший над книгой» (учебниками латыни и греческого), застрелился из револьвера. Дядя покойного, П. А. Демерт, описал смерть гимназиста в гневном письме в редакцию «Санкт-Петербургских ведомостей» (опубликовано в № 16), возлагая ответственность на классическое образование, с его непомерными требованиями по «мертвым языкам». В подтверждение этого он привел еще один такой случай: «в одной только Казани это уже не первый случай самоубийства из-за мертвых языков», летом 1870 года там застрелился, по той же причине, гимназист Сергей Пупарев. В ответ на это письмо в газету «Журнал Министерства народного просвещения» опубликовал в феврале 1871 года донесение о происшествии, составленное попечителем Казанского учебного округа П. Д. Шестаковым по просьбе министра народного просвещения. По словам Шестакова, Демерт-старший, исполненный «ненависти к классицизму», оклеветал покойного племянника, который, как и гимназист Пупарев, отлично владел древними языками. Ответственность за самоубийства, утверждал педагог, лежит не на классической системе образования, а на «нашей литературе» (как он называл современную публицистику), которая так много пишет о таких случаях, превращая их в образцы для подражания. Согласно логике его аргумента, именно печать выдвигает «классические» образцы, которые как бы в традициях античности вызывают к жизни акты подражания. Согласно фразеологии отчета попечителя, «литература» выступает как проводник распада и «тления»: «окружая самоубийц ореолом мученичества, сочиняя о них ряд статей, прославляя и оплакивая их <…> литература действует тлетворно и разрушительно, воспитывая в юношах идею о великости подвига лиц, лишающих себя жизни»