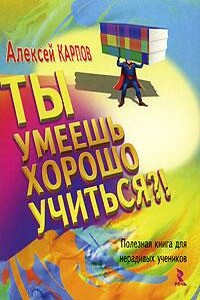Самоубийство как культурный институт | страница 55
Церковные деятели эпохи реформ были также озабочены переделом власти между государством, церковью и наукой (медициной). Тело и душа самоубийцы сделались плацдармом борьбы за власть. С. В. Булгаков в своей «Настольной книге для свяшенно-церковно-служителей» предупреждал священников о том, что согласно гражданским заколам самоубийцы не могут быть похоронены без предварительного следствия со стороны полицейских и медицинских властей: «гражданский закон ставит решение вопроса, может или не может самоубийца быть похоронен по христианскому обряду, — в зависимость от отзыва врача и полиции»[227]. Как служитель церкви, он, однако, настаивал на том, что раскаявшийся самоубийца, принявший перед смертью святое причастие, в соответствии с древними церковными установлениями, мог быть удостоен церковного погребения[228]. Таким образом, акт раскаянья, скрепленный обрядом причастия, возвращал самоубийцу из рук гражданских и медицинских властей в «юрисдикцию» церкви.
Возникает вопрос: как надлежало, согласно закону, поступать с телами тех, кому авторитетом судебного следователя, патологоанатома или священнослужителя было отказано в церковном погребении? Юридический ответ на этот вопрос можно было найти в «Уставе врачебном». (Этот документ, входивший в том 13 «Свода законов Российской Империи», заключал в себе описания предписываемых законом процедур медицинского и гигиенического характера, утверждая «юрисдикцию государства во всех вопросах здравоохранения»[229].) Начиная с издания 1835 года, «Устав врачебный» (часть 2, «Устав медицинской полиции») гласил: «Тело самоубийцы палач должен в бесчестное место отволочь и там закопать»[230]. Как происходило на самом деле, установить трудно, однако маловероятно, что это постановление, сформулированное языком петровских законодательных актов, выполнялось в девятнадцатом веке буквально.
В одном пункте служители церкви поставили под сомнение авторитет гражданских властей: является ли решение о церковном захоронении самоубийцы (самоубийцы, признанного умалишенным), принятое гражданскими властями, обязательным для священнослужителей? Духовная консистория