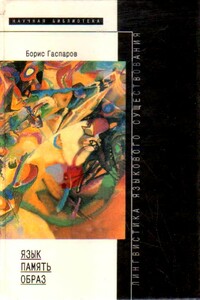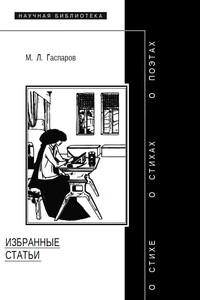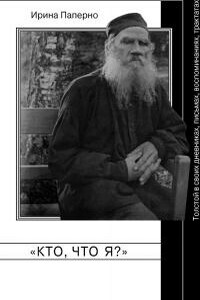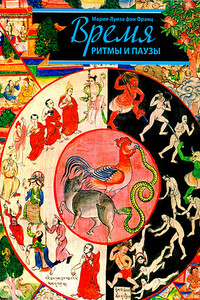Самоубийство как культурный институт | страница 14
В России в конце восемнадцатого века случай Сушкова, связавшего в своих писаниях и в своем поступке отрицание бессмертия души с самоубийством, отнюдь не был исключительным. Известен еще один атеист-вольтерьянец, покончивший с собой в 1793 году, другой провинциальный помещик— Иван Опочинин. В своем предсмертном письме он излагает причины своего поступка, отправляясь от идеи отрицания бессмертия души и утверждения «своеволия»; отвращение к русской жизни также играет немалую роль:
После смерти нет ничего!
Сей справедливый и соответствующий наивернейшему правилу резон <…> заставил меня взять пистолет в руки. Я никакой причины не имел пресечь свое существование. Будущее, по моему положению, представляло мне своевольное и приятное существование. Но сие будущее миновало бы скоропостижно; а напоследок самое отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить самовольно мою судьбу.
О! Если бы все несчастные имели смелость пользоваться здравым рассудком…[60]
Опочинин предал свое тело — бездушную «машину», управляемую законами природы, — в руки местных властей («Господа нижние земские судьи! Я оставляю вашей команде мое тело. Я его столько презираю… Будьте в том уверены») и распорядился об освобождении своих крестьян. По его словам, он провел последние часы, переводя стихотворение Вольтера на русский язык. Таков и смысл самого его акта — культурная модель самоубийства, созданная в западноевропейской просветительской традиции, была переведена на русскую почву.
Какова же была бы судьба человечества, «если бы все имели смелость пользоваться здравым рассудком»? Мысль, высказанная русским вольтерьянцем в последние годы восемнадцатого века, была закончена в 1870-е годы Достоевским. В этом случае, полагал он, жизнь на земле закончится массовым самоубийством. Такова, по его мнению, была бы судьба общества, всецело охваченного европейской заразой атеизма и социализма.