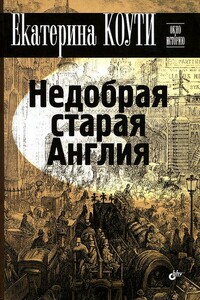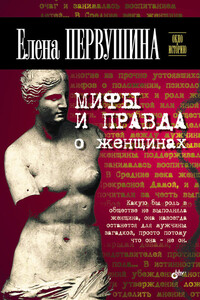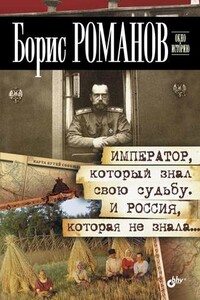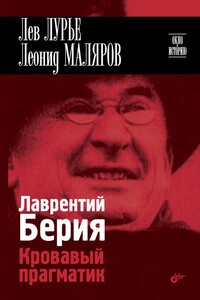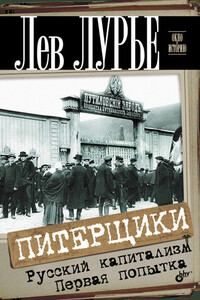Над вольной Невой. От блокады до «оттепели» | страница 26
Куприянов вспоминал: «Вернулся псковский секретарь Л. Антюфеев, затем И. Турко — секретарь ярославский. Вернулся из Воркуты Степан Антонов, бывший заведующий отделом Ленинградского горкома партии. Вернулись некоторые из секретарей райкомов Ленинграда. Никому из них не дали прежней работы, хотя они были полностью реабилитированы. Им предстояло еще получить партбилеты, потом выслушать нотации от самодовольных барчат, оставшихся в Смольном».
Только пришедшее к власти брежневское поколение политруков начинает использовать войну (а в Ленинграде — блокаду) как основной миф советской власти. Единство партии и народа — причина победы. В 1960-м открывается Пискаревское мемориальное кладбище, в 1965-м — «Зеленый пояс Славы», в 1975-м — мемориал «Героическим защитникам Ленинграда» на площади Победы.
Как писал Даниил Гранин: «Уже умер Сталин, прошел XX съезд партии, все сменилось, ленинградский же „синдром“ продолжал действовать. „Великий город с областной судьбой“ не смел вспоминать о блокаде. Он застыл раз и навсегда в утвержденной сверху героической эпопее 900 дней, которые ленинградцы выстояли прежде всего „благодаря помощи всей страны“, вниманию, уделенному товарищем Сталиным. Этот образ блокады был утвержден постановлениями и обвинительными заключениями трибуналов, следовательно, обжалованию не подлежал. „Ленинградское дело“ скрепило его кровью сотен своих жертв. Пересмотра не дозволялось».
А настоящая блокада, где люди умирали бесцельно и где страдания никак не зависели от идеологии, вытесняется в подсознание, становится «скелетом в шкафу». О подлинной блокаде предпочитали не вспоминать и те, кто ее пережил. И дети не от учителей, а от матерей знали о существовании чего-то неслыханно ужасного и о том, что в доме необходимо хранить запас продуктов «на всякий случай». Детали оставались не проговоренными, хранились в подсознании, с этой памятью трудно было жить, и о ней не рассказывали даже дочерям и сыновьям.
«Великий город с областной судьбой» реабилитировали наполовину, как крымских татар и поволжских немцев. Только в 1985 году награжденные медалью «За оборону Ленинграда» получили те же льготы, что и фронтовики. Остальные блокадники — в 2001-м.
Тень блокады лежит на городе и сегодня, хотя большинство ветеранов не дожили до публичной правды, их воспоминания не записаны. Передающийся по наследству ленинградский стоицизм, некоторая угрюмость, память о чем-то, о чем и вспоминать нельзя, по-прежнему не оставляют горожан.