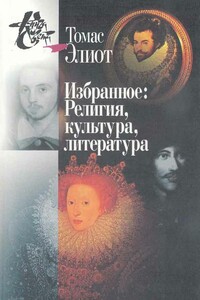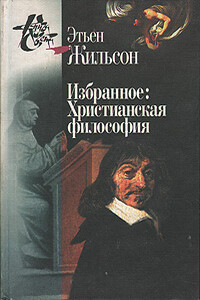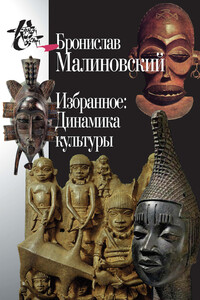Любовь, сила и справедливость. Онтологический анализ и применение к этике | страница 29
Принцип равенства может быть понят и противоположным образом. Он может демократически применяться к каждому человеку. Основанием для этого служит утверждение, что всякий, заслуживающий называться «человеком», обладает разумом. Именно потенциальная разумность делает всех людей равными. Если хотят установить действительное равенство, эта потенциальная возможность должна быть реализована. Но в процессе ее реализации обнаруживаются бесчисленные различия между людьми: изначальные различия характеров, социальных возможностей, творческих способностей – различия во всем, что определяет силу бытия. Эти различия влекут за собой различия в социальном положении и, как следствие, в требованиях справедливого распределения. Однако (в отличие от систем, порожденных иерархическим мышлением) эти социальные различия являются функциональными, а не онтологическими. Они не рассматриваются как нечто, не подлежащее изменению. Тем не менее они не допускают установления в обществе эгалитарной системы. Фактически эгалитарной системы не существует ни в каком обществе.
Отношение равенства и справедливости зависит от силы бытия, которой обладает человек, и соответствующих этой силе внутренне присущих человеку требований. Эти требования могут определяться весьма различными способами. Например, человек может находиться на определенной ступени иерархической лестницы и ожидать справедливости, соответствующей этой ступени. Или может считаться уникальной и ни с кем не сравнимой личностью и ожидать индивидуальной справедливости, соответствующей его особой силе бытия. Или считаться носителем выдающегося разума и ожидать справедливости в соответствии со своей способностью разумно вести себя в разных обстоятельствах. Во всех этих случаях равенство имеет место, но это равенство не эгалитарное, а соответствующее обстоятельствам. В контексте этих рассуждений проблема свободы человека может решаться по-разному. Главное, чтобы человек рассматривался как мыслящая, принимающая решения и ответственная личность. Поэтому, говоря о принципе справедливости, быть может, лучше говорить не о равенстве, а об индивидуальности. Этот принцип заключается в требовании рассматривать каждую личность как личность. Справедливость всегда нарушается, если с людьми обращаются как с вещами. Это называлось «материализацией» (Verdinglichung) или «объективацией» (Vergegenständlichung). В любом случае это противоречит справедливости бытия, внутренне присущему каждой личности требованию, чтобы на нее смотрели как на личность. Это требование определяет отношение свободы к справедливости. Свобода может означать духовное превосходство личности над порабощающими условиями внешнего мира. Раб в понимании стоиков и раб в христианском понимании одинаковы в своей независимости от социальных условий, которые противоречат их внешней свободе, но необязательно вступают в конфликт с их духовной свободой, с их личностями и с требованием, чтобы их считали личностями. Стоик участвует в справедливости Вселенной и ее рациональной структуре; христианин ожидает справедливости Царства Божьего. Из социальной судьбы не вытекает порабощение личностного центра. Духовная свобода возможна даже «в цепях». В противовес этому идеалу неполитической духовной свободы либерализм стремится изменить порабощающие условия. Переход от одной идеи свободы к другой связан с пониманием того, что существуют социальные условия, не позволяющие достигнуть духовной свободы – либо никому из людей, либо огромному их большинству. Это было аргументом революционных анабаптистов