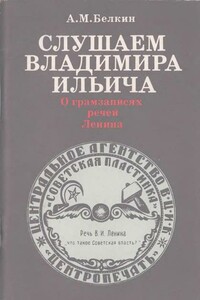Агния Барто | страница 3
Игорь Мотяшов, октябрь 1978.
Предисловие
Агния Барто родилась в Москве в 1906 году, в семье ветеринарного врача, Льва Николаевича Волова, который и внушил ей с самых ранних лет любовь к литературе, к великим русским поэтам и писателям — от Крылова до Льва Толстого, к родному слову, к его огромным, чудесным, как казалось будущей поэтессе, возможностям.
Писать она начала с детства, сначала в гимназии, а потом в советской школе, сочетая в своих стихах возвышенную и лишь поначалу еще сугубо книжную романтику с сатирой и эпиграммами на своих знакомых и учителей (сочетание, крайне характерное и для всего дальнейшего творчества А. Барто, хотя, конечно, принявшего с годами иной характер и на совершенно ином уровне).
Юной поэтессе повезло с самого начала — первым ее наставником в литературе в 20-х годах явился не кто иной, как тогдашний нарком просвещения Анатолий Луначарский, который и предсказал ей с присущей ему проницательностью и чуткостью (прослушав ее «Похоронный марш»), что молодая поэтесса найдет себя... в области создания «веселых стихов».
Не менее знаменательным в ее судьбе явилось и то — как сообщает А. Барто в автобиографии, — что ей «посчастливилось встретиться с Маяковским на первом празднике детской книги» и сам Маяковский, с волнением и трепетом выступавший перед большой детской аудиторией — как-то она его примет?! — утверждал, что поэзия для детей вовсе не «литература второго сорта» (как тогда многие смотрели на детские стихи), а великое дело. Заветы Маяковского, внушавшего, что нашим детям нужна «принципиально новая поэзия», обращенная к «будущему гражданину», обрели и навсегда сохранили для А. Барто свое большое, непреходящее значение — об этом свидетельствует творческий путь поэтессы. «Встреча с Маяковским многое для меня прояснила»,— говорит А. Барто в автобиографии, и действительно, многое в ее стихах связано с традициями Маяковского, с тем, что впервые утверждал Маяковский в своих «Стихах детям», обращенных к юной аудитории, в своей «принципиально новой поэзии», пронизанной пафосом высокой гражданственности, а вместе с тем и новаторского осмысления всех средств художественной выразительности, смелых до дерзости и опрокидывающих уже сложившиеся нормы и представления о характере и возможностях «детской поэзии», да и возможностях детского восприятия.
Пусть некогда, в ранней юности, А. Барто полагала, что, овладев основами литературного мастерства, она может стать со временем и «взрослым» поэтом, но вот уроки Маяковского и других лучших наших поэтов, пишущих для детей, а также усвоение фольклорного опыта, заключенного во множестве русских песен, сказок, поговорок, пословиц, загадок и других созданий народного творчества, непосредственное изучение и самостоятельное исследование такой огромной области нашей действительности, как жизнь детей, школьников, пионеров, глубокое и с годами все более основательное приобщение к ней, «вживание» в нее — все это внушило поэтессе неколебимое убеждение, отвечающее самому существу ее дарования, что стихи для детей — это огромная, необычайно важная и ничем не заменимая область художественного творчества.