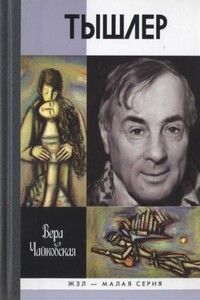Орест Кипренский. Дитя Киприды | страница 48
Конечно, в рисунке присутствует «большая» историческая мысль. Но есть, как всегда у художника романтического склада, оглядка на собственную жизнь, на личные взаимоотношения с изменчивой Фортуной.
В конце 10-х годов, вероятно уже в Италии, он рисует в альбоме два рисунка под названием «Аллегория вольности». И снова художник фиксирует непримиримые противоречия. В более прорисованном варианте бешеные кони несут «гения вольности» с завязанными глазами, удаляясь от «твердыни» крепостной башни. А ими предводительствует все тот же неразумный ребенок-путти с факелом в руке. Наполеоновские войны заставили о многом призадуматься, увидеть обратную сторону обещанной Наполеоном свободы. «Мировой пожар», несущий «вольность», художника и привлекает, и ужасает своей дикой стихийностью. И тут Кипренский жаждет «меры», гармонии разума и стихийности, личного и общественного, едва ли достижимого в реальности.
Валерий Турчин видит некоторую близость мировоззрения Кипренского с преподавателем «естественного права» в пушкинском лицее А. П. Куницыным[83]. Они были в переписке. Но Кипренский не философ, его симпатии и антипатии идут от интуиции, от ощущения правды, меры и красоты, от понимания жизни как вечной борьбы разума и безумия, стихийных сил и сдерживающих начал, изменчивой судьбы и безрассудных личных порывов…
В этом контексте, видимо, следует рассматривать и его отношение к декабристам. Он видит более крупно, более обобщенно, хотя, безусловно, им сочувствует. Тот же Турчин совершенно справедливо пишет, что в отличие от Оленина и Уварова Кипренский «не мог эволюционировать в своих общественных взглядах в сторону реакции»[84].
Тут очень кстати размышления Владислава Ходасевича о молодом Пушкине, хотя Кипренский «опережал» поэта на целое поколение. В отрывке «Молодость» (из незаконченной книги о Пушкине) Ходасевич намечает две «точки притяжения» поэта. Это молодые люди, будущие декабристы, которых Ходасевич называет «умными», и светские львы, золотая молодежь, которых он в рифму зовет «шумными»: «Можно сказать, что Пушкин не сводил глаз с “умных”. Но пристал он все-таки к “шумным”, потому что их общество было легче ему доступно, а еще более потому, что к ним влек соблазн. Жизнь его сделалась безалаберной. Попойки дневные сменялись вечерними, потом нужно было спешить в театр или на бал, затем шли попойки ночные, с женщинами, с цыганами, с поездками в Красный кабачок»[85].
С Кипренским была другая история, каким бы «царским сыном» он себя ни воображал, в высокие сферы России он был допущен как живописец, а не как равный. Но в его положении было свое преимущество. Он не отождествлял себя с людьми света, а смотрел на них даже не со стороны, а как бы вообще вне исторического времени, в «экзистенциальной» перспективе.