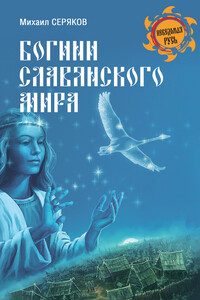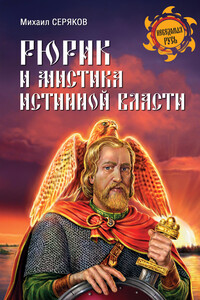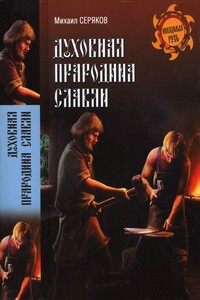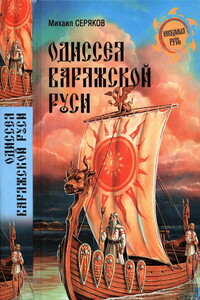Дажьбог - прародитель славян | страница 7
Язык этого уникального памятника древнерусской литературы весьма непрост для понимания современным читателем в силу своей исключительной метафоричности и обращения его создателя к уже утраченным мифологическим образам. Тем не менее оба упоминания «Дажбожьего внука» представляют для нашего исследования значительную ценность. Еще А. С. Орлов отмечал, что в «Слове о полку Игореве» слово внук значит «потомок во всех случаях употребления этого термина». Не вызывает разночтений и то, что сам образ «Дажбожьего внука» имеет, самое прямое отношение к Руси той эпохи. Среди исследователей нет единства только в отношении того, кого конкретно имел в виду под потомками Дажьбога автор «Слова» — правящую на Руси княжескую династию Рюриковичей либо же весь русский народ в целом. Использование этого оборота в тексте памятника делает равновероятными оба толкования. Тем не менее тот факт, что в приписке к псковскому Апостолу 1307 г., открытой К. Ф. Калайдовичем еще в 1813 г., приведенному выше образу «Слова о полку Игореве» о гибели из-за княжеских усобиц «жизни Дажбожа внука» соответствует оборот, где говорится о гибели «жизни нашей»: «при сихъ князехъ сѣяшется и ростяше усобицами гыняше жизнь наши въ князѣхъ которы и вѣци скоротилися человѣкомъ»[10], свидетельствует в пользу отнесения интересующего нас выражения ко всему русскому народу в целом, а не только к княжеской династии.
Основной контекст упоминания выражения о «Дажбожьем внуке» гениальным создателем «Слова о полку Игореве» предельно ясен: княжеские усобицы наносят страшный ущерб потомкам бога солнца как путем гибели людей во внутренних распрях, так и облегчая возможность иноплеменникам победно вторгаться на Русь. Понятно, что современной автору эпохе междоусобиц противопоставлялась прежняя эпоха единства князей и, соответственно, процветания потомков Дажьбога. Однако сама идея единства рода Рюриковичей, совместно владеющих различными русскими княжествами, имела под собой отчетливо языческую основу. В. Л. Комарович по этому поводу писал: «Необъясним был и пресловутый черед «лествичного восхождения» князей на киевский стол, явно имитировавший отношения старшинства при родовом строе, невыводимый, однако, из этого последнего непосредственно ввиду столь же явной его изжитости в XI–XII вв. Но в качестве сакрально-культового пережитка того же самого родового строя и эта загадка русской истории разрешается просто.