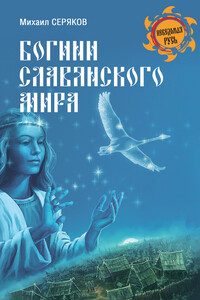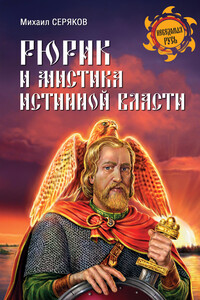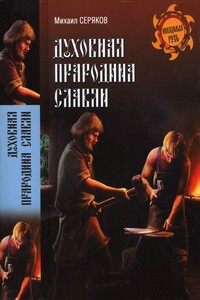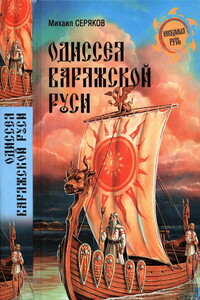при
богатство, др. инд. Bhaga-, др. иран., ср. иран. Baga-, Вауа- и т. п., божества, персонифицирующие долю, часть, богатство, ср. др. инд. bhaj — «делить», из bhag- и др.)»
[100]. Представление о боге — подателе благ, подтверждающее второй вариант этимологии Дажьбога, многократно встречается нам в памятниках древнерусской письменности: «бъ далъ бъ взятъ»
[101]; «Подас(тъ) бгъ богатую меть свою»
[102]; «А что есмь придобыл золота, что ми дал б(ог)ъ, и коробочку золотую…»
[103] и т. п., вплоть до сохранившегося до наших дней выражения «Бог дал — Бог и взял». Встречается этот устойчивый оборот в древнерусской письменности и в отрицательной форме: «Богъ того не дай (= того Богъ не дай)»
[104]. О возникновении данного оборота еще в эпоху индоевропейской общности свидетельствуют такие ведийские выражения, как daddhi bhagam «дай долю/богатство» (РВ П, 17,7), где daddhi — повелительное наклонение, точно соответствующее слав.
даж(д)ъ, или asi bhago asi datrasya datasi — «ты — Бхага (богатство), ты — деятель даяния» (РВ IX, 97, 55)
[105]. С дневным светилом арии тесно связывали и богатство, физическое и духовное — «Солнце целиком владеет (всем) добром» (РВ I, 71, 9). Со славянским Дажьбогом индийского бога солнца Сурью сближает и то, что он является «основой богатств, собирателем благ» (РВ X, 139, 3), которые он дает людям. Вероятно, учитывая данный глубоко укоренившийся архетип бога-подателя в славянском сознании, именно этот образ в X в. использует Константин Преславский применительно уже к христианскому Богу, дающему новообращенным благую весть евангелия:
Поэтому услышьте, славяне,
Дар этот от Бога дан нам.
Дар Божий тем, что встанут одесную,
Дар Божий душам, нетленный,
Душам, достойным принять этот дар
[106].
Весьма показательно, что в своем «Прогласе к евангелию» этот один из крупнейших болгарских писателей своего времени так упорно обыгрывает только образ божьего дара, слова и закона, т. е. те темы, которые достаточно тесно связаны именно с языческим Дажьбогом.
Следы процесса словообразования этого имени сохранились в нашей стране вплоть до первой половины XIX в., когда И. Снегирев на основе своих личных наблюдений писал: «В некоторых губерниях Росс, доселе говорят: Дажба вместо: дал бы Бог!»[107]Об устойчивости данного выражения говорит и приведенный выше пример рязанской божбы XIX в.: «Авосьта Дажба, глаза лопни!» Дополнительно подтверждает правильность понимания Дажьбога как бога — подателя различных благ и две опубликованные С. Килимником украинские колядки, в которых имя бога звучит устойчивым рефреном. В первой песне рисуется картина богатого урожая на поле хозяина, счастья всей его скотине, дом, полный домочадцев: