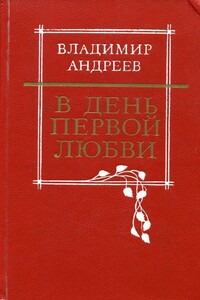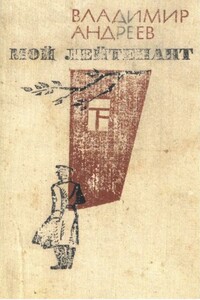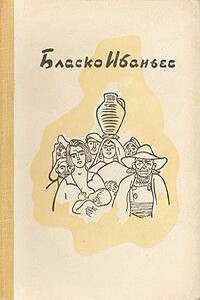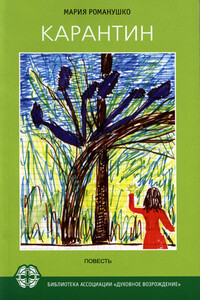Два долгих дня | страница 35
— Я брошу гранату, чтобы наши знали. А ты сразу стреляй, — говорит Тарабрин задыхающимся шепотом.
Каждый шаг теперь кажется долгим, и такое ощущение, будто ползут они по голой, ровной, как стол, земле, на виду у врага. Чуть приподнявшись, Тарабрин взмахивает рукой и бросает гранату, и когда Забелин тоже приподнимается и начинает щелкать затвором, то совсем рядом, шагах в тридцати от себя, видит немцев — они лежат за мшистыми кочками и ведут огонь по окопу. Взрыв гранаты взметает землю, стрекочет автомат Тарабрина. Выстрелив на ходу, Забелин привстает на колено и стреляет. Над головой пронзительно поют пули. Он успевает заметить, что Тарабрин, рванувшись в сторону, бросает еще гранату. Совсем рядом слышатся голоса немцев. Забелин стреляет, взглядывая изредка на Тарабрина. Тот поднимается, бежит. Забелин быстро выхватывает из кармана гранату, бросает ее, что-то выкрикивая.
Он бежит, на ходу стреляя и крича. Он видит слева от себя Тарабрина, то припадающего к земле, то вновь поднимающегося во весь рост. Видит, как шевелятся зеленые фигурки за мшистыми кочками. Забелин даже не догадывается, что немцы, пораженные их неожиданным появлением, отходят. Он бежит, стреляет и, когда патроны кончаются, на ходу выхватывает из кармана гранату, кидает ее в самую гущу зеленых ненавистных фигур, бросает вторую… Еще одна граната. Бросить ее он не успел. Какой-то толчок сваливает его на землю, и граната остается в руке. В первое мгновение он еще видит ярко-оранжевую полоску за горизонтом, в той стороне, где было поле, ощущает боль в голове от падения, а потом все мешается… Боль сразу куда-то уходит, или он забывает про нее, потому что резко пахнет травой, и этот запах уносит его прочь от грохота. В каком-то беспорядке мелькнул пологий изгиб Волги, старые липы на откосе, и за ними та же оранжевая полоса заката, а потом стало видно, что не закат, а люстры бьют своим светом ему в глаза. Он вдруг видит себя как бы со стороны, и место, где он находится, кажется очень знакомым, он узнает его, этот большой зал, где часто играл, и только поражается, что перед ним тот самый зал, так он изменился сейчас, до таких огромных размеров разросся. Певучие старинные фуги, беззаботные скерцо — тысяча звуков врывается в зал, и лица зрителей, сидевших перед сценой, вдруг оживают и приближаются. И тогда мелькает среди них лицо матери, усталое и грустное, тут же возникает заросшее щетиной угрюмое лицо Тарабрина, кричит беззвучно какую-то команду Селезнев. Все это смешивается, стирается, тревога охватывает Забелина, и он снова играет, напрягая все силы, чувствуя, как вместе со звуками разливается по телу усталость и покой…