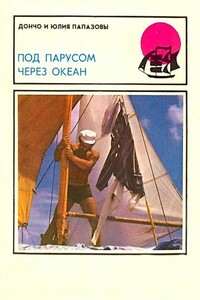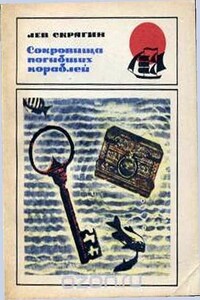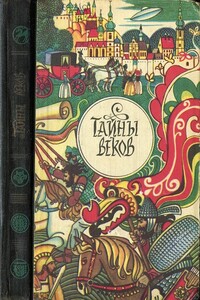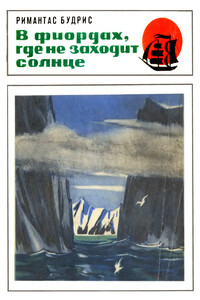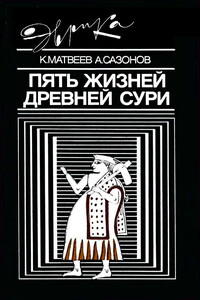Когда заговорила клинопись | страница 17
Образцы письма и отчет о своем путешествии К. Нибур опубликовал в работе «Описание путешествия в Аравию и окружающие страны», Копенгаген, 1774–1778. Выход в свет труда К. Нибура послужил сильным толчком для европейских ученых, которые стали делать попытки дешифровать клинопись.
Немецкий востоковед Олаф Герхард Тихсен (1731–1815 гг.), изучив материалы, опубликованные К. Нибуром, высказал мнение, что знак, повторяющийся так часто и стоящий наискось, является «словоразделителем» и что каждая из трех надписей представляет какой-то новый язык. Датский ученый и теолог Фридрих Христиан Карл Генрих Мюнтер (1761–1830 гг.) сделал предположение, что язык ряда строк близок к языку Авесты — священной книги парсов. Имена, встречающиеся в этой книге, были близки по звучанию к древнеперсидским, и текст трех форм клинописи идентичен. Кроме этого, Мюнтер правильно выделил слово «царь» в группе из семи знаков. Однако дальше этого Мюнтер не смог двинуться. «И вот приходит Гротефенд. Неспециалист! Всего лишь незаметный учителишка гимназии, — пишет о нем немецкий ученый Э. Добльхофер. — Никакого понятия об ориенталистике, но парень с огоньком. Однажды заключает пари и расшифровывает клинопись». Полностью его имя звучало Георг Фридрих Гротефенд.
Но путь к открытию тайны, к дешифровке был труден. Не сразу Гротефенд пришел к своему открытию. Он изучил различные образцы нескольких письмен, прочитал работы путешественников, ученых, побывавших на раскопках. В этой связи Гротефенд писал, что «одна и та же надпись сделана тремя различными способами. На первом месте стоит самая простая, фонетическая, состоящая из ряда знаков для отдельных звуков. Нибур их насчитал сорок два. Вторая надпись сложнее, в ней гораздо больше знаков. Нибур насчитывает их сто тринадцать и думает, что наряду с фонетическими знаками здесь есть много знаков для целых слогов. Наиболее сложной является третья надпись, — вероятно, Кемпфер был прав, что в этой надписи встречаются знаки для целых слов, для целых понятий. Объясняется эта странность просто. Судя по всему, надписи были высечены при древнеперсидских царях. Персидское царство занимало очень большое пространство, в состав его входило много разных народов. Все они говорили на разных языках. Ясно, что особо важные надписи приходилось делать на главнейших языках огромного государства». Далее Гротефенд полагает, что «надписи, сохранившиеся во дворце, могли иметь отношение только к царям. К каким? Да вот к тем самым Ахеменидам, имена которых знает всякий школьник, читавший на уроках греческого языка сочинение Геродота: Кир, его сын Камбис, завоевавший Египет, Дарий и Ксеркс, которые вели войны».