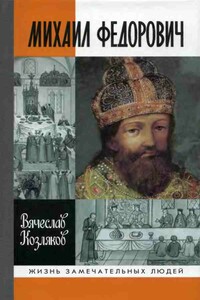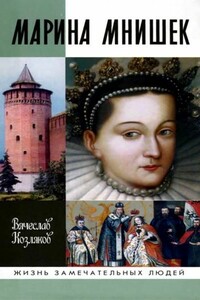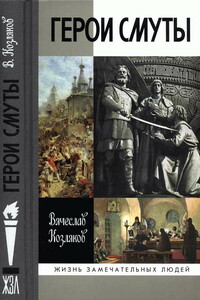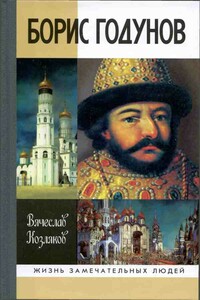«Ближние люди» первых Романовых | страница 44
Апофеозом торжеств по поводу возвращения из плена царского отца стал совет царя, патриарха и Земли — Земский собор, состоявшийся в августе 1619 года. На земских соборах решались самые важные дела в государстве, и в этот раз была предложена целая программа действий, которую историки связывают с именем царского отца, считая само собой разумеющейся его большую опытность в делах. Среди предложенных мер были составление нового земельного описания и посылка писцов в уезды для учета текущего состояния земельного фонда, из которого награждали вотчинами и поместьями служилых людей. Для налаживания торговли требовался сыск посадских людей и закладчиков, вынужденно переселившихся в Москву из разоренных украинных городов или сменивших своих владельцев во времена Смуты и не плативших налоги за участие в торговых операциях. Говорилось о необходимости рассмотрения судебных споров с «сильными людьми», наведении порядка в сборе доходов и созыве выборных на новый Земский собор. Представители городов и уездов должны были рассмотреть прежние «обиды, насильства и разорения» и обсудить, «чем Московскому государству полнитца и ратных людей пожаловать и устроить бы Московское государство, чтоб пришло все в достоинство»[65].
При более пристальном рассмотрении в этой программе не оказывается ничего нового, все принятые меры уже были так или иначе опробованы в первые годы царствования Михаила Федоровича. Царский отец, московский патриарх и еще один «великий государь» Филарет своим авторитетом лишь подтверждал верность выбранных действий, которые, пусть с ошибками, но уже применялись раньше. Всеобщая эйфория по поводу возвращения из плена отца царя Михаила Федоровича и завершения Смуты очень скоро сменилась рутиной повседневного управления Московским царством. Земский собор в обычных условиях, где со всеми делами справлялись приказы, оказался не нужен. Власть в царстве, как это и бывало «при прирожденных государях», полностью перешла в руки царя, патриарха и их «ближних» людей.
Открывая боярские списки 1620-х годов, можно увидеть, что имя князя Ивана Борисовича Черкасского стояло не на первом, а на втором месте. А кто же тогда был впереди? На первом месте писалось имя царского дяди Ивана Никитича Романова, того самого, с кем некогда князь Иван Борисович разделил годуновскую ссылку. Записью имени во главе боярских списков царскому дяде был выказан полный почет и уважение: ведь он лет на десять начал служить раньше в стольниках, чем князь Иван Борисович Черкасский. Пережив опалу Годунова, Иван Никитич Романов стал боярином уже в 1605 году. Но «грех» 1613 года и опасность выстраивания вокруг близкого царского родственника своеобразной «оппозиции» (весьма условное слово применительно к политической борьбе Московского царства) тоже оставались. Сам Иван Никитич не давал никакого повода к таким подозрениям в собственной нелояльности: он участвовал в главных дворцовых церемониях, выступал душеприказчиком или послухом в частных боярских делах, но фактически всё равно был отодвинут от текущего управления.