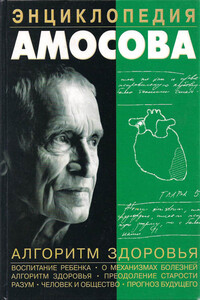Книга о счастье и несчастьях | страница 36
В 10 звонит дежурный Декуха:
— С вашим больным плохо. Мы удалили ему трубку в 7 часов, а в 8.40 при вполне хорошем состоянии было что-то вроде остановки дыхания. Снова интубировали. Сейчас кровяное давление неустойчивое.
Я редко взрываюсь при вечерних докладах, но тут ругался на самой грани приличий. Вызвал «скорую помощь» — ехать. Подумал с безнадежным хирургическим спокойствием: «Толку уже не будет».
На улице ждала машина. Быстро в институт и бегом в реанимацию. Думал: «Зачем бежишь? Не повлияешь все равно».
В главном зале девять человек прооперированных больных. Над мальчиком — Декуха. Делают массаж сердца. На осциллоскопе почти прямая линия. Зрачки широкие.
Приехал Саша Ваднев и включился: массирует, как машина, и еще дает указания по другим больным.
Все тщетно.
Появился Бендет, сообщил, что вызвал родителей: «Там стоят, у входа в реанимацию».
— Ну вот. Значит, тут же сообщим. Не придется ждать до утра тягостного объяснения.
Хорошенькое дело — «сообщим», когда сами не знаем совершенно «отчего»?
В полутемном коридоре вижу мать и отца. Застывшие лица; по мне определили — плохо. Ни вопроса, ни возгласа горя.
— Ваш мальчик умер. Два часа реанимировали, не помогло. Не знаю причин.
Это все. Распорядился отвезти родителей в гостиницу, а потом приехать за нами…
Только и остается, что писать дневник, откровенничать на бумаге. Всю жизнь замыкался на людей, трудно будет, когда прервутся связи через хирургию, директорство, публичные лекции. Плохо остаться никому не нужным. Понимаю, что это «нужен» — эфемерно, внимание людей изменчиво и неглубоко да вроде бы уже и не очень важно: ослабло лидерство. Ан — нет, страшно. Привыкну, конечно, все старики привыкают.
Сейчас, когда идут операции, когда хорошо бегается и умно говорится, ощущаешь жизнь и забываешь, что это уже последние ее вздохи. Но ударит по голове — и очнешься…
Неделя была скверная, и дистанцию утром выбегал с трудом, где уж тут найти оптимизм?
Смерть каждого ребенка скоблит мое сердце, как теркой, и на много дней лишает покоя. Это не фраза, так и есть. Могу выполнить программу дня, разговаривать и даже смеяться, а в глубине — тоска… Пусть уж лучше одиночество без хирургии.
Поэтому в пятницу объявил на конференции, что снова прекращаю оперировать детей.
Конечно, я не только оперирую, директорствую и плачу над смертями. Я еще читаю, думаю, даже разговариваю о политике. На прошлой неделе был Пленум ЦК. Теперь небось будет называться «исторический апрельский», поскольку первый при новом секретаре. И пойдут опять перепевы: «в свете решений», «в речи на апрельском Пленуме», «как сказал на Пленуме товарищ Горбачев»… И обязательно с добавлением имени-отчества. Сколько я уже слышал этих «исторических»…