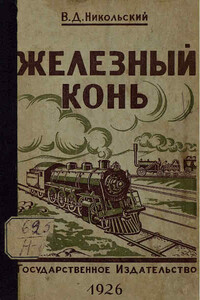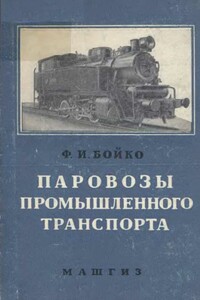Беседы об информатике | страница 10
Разговоры о чудесах автоматики велись не только в институтах, но и дома за чайным столом. В этой связи вспоминаются встречи с академиком Н. Лузиным, также работавшим в Институте автоматики и телемеханики АН СССР. Н. Лузин был чистым математиком, и все же одна из основных его работ того времени «К изучению матричной теории дифференциальных уравнений» была напечатана в журнале «Автоматика и телемеханика» № 5 за 1940 год.
Н. Лузин был прекрасным рассказчиком, причем эти его черты особенно ярко проявлялись именно за чайным столом. Он не грешил против истины, но свои рассказы о будущем вычислительной техники ухитрялся облекать в такую форму, что, как говорится, мороз подирал по коже.
Примерно в середине 30-х годов советский физик В. Шестаков, американский математик и инженер К. Шеннон и японский инженер А. Никасима обратили внимание на то, что некоторые структуры электрических схем, состоящих из реле, сильно напоминают структуры, изучаемые в математической логике. Практически одновременно с исследованиями В. Шестакова и К. Шеннона были опубликованы также статьи советского инженера В. Розенберга и австрийской исследовательницы И. Пиш (изложившей результаты, полученные ее научным руководителем О. Плехелем).
В аналогии между электрическими схемами, состоящими из реле, и структурами, изучаемыми в математической логике, советский ученый, в будущем глава школы математических логиков М. Гаврилов увидел средство создать математический аппарат для формального синтеза схем, состоящих из реле.
Рождение оригинального взгляда на хорошо известные к тому времени по автоматическим телефонным станциям релейно-контактные схемы проходило не гладко. М. Гаврилова обвиняли во многих грехах. Защита его докторской диссертации напоминала сражение. Сражение это закончилось победой нового — диссертацию утвердили в 1947 году.
Следует ли усматривать в истории с диссертацией М. Гаврилова недоверчивое отношение к кибернетике? Во-первых, слово «кибернетика» тогда не было принято. Во-вторых, все новое пробивает себе путь с трудом. Так, по-видимому, и должно быть. В противном случае слишком легко рождались бы истины-однодневки, которые хотя и развенчиваются за короткое время, но успевают наделать много вреда. Наконец, в любой критике, сколько бы тенденциозной она ни была, всегда содержится крупица истины. Например, если бы М. Гаврилов предложил свой математический аппарат для синтеза релейно-контактных схем, не упоминая при этом логику, он наверняка избавил бы многих от лишних бесплодных размышлений, а подчас и заблуждений.