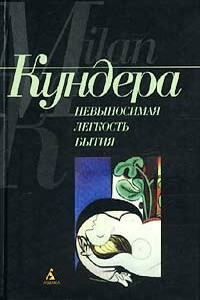Искусство романа | страница 13
К. С.: Именно об этом вы говорите в «Невыносимой легкости бытия»: «Роман – не вероисповедание автора, а исследование того, что есть человеческая жизнь в западне, в которую претворился мир»[1]. Но что это такое – западня?
М. К.: То, что мир – это западня, было известно всегда: мы родились на свет, хотя не просили об этом, мы заперты в теле, которого сами не выбирали и которому суждено умереть. Зато мировое пространство все время предоставляло возможности для бегства. Так, солдат мог дезертировать из армии и начать новую жизнь в соседней стране. В нашем веке мир внезапно смыкается вокруг нас. Решающим моментом превращения мира в западню стала, без сомнения, война 1914 года, названная (причем, впервые в Истории) мировой войной. Но она не была мировой. Она касалась только Европы, и даже не всей Европы. Но тем красноречивее прилагательное «мировая» передает ощущение ужаса перед тем фактом, что отныне ничто из того, что происходит на планете, не будет являться локальным событием, что все катастрофы затрагивают мир в целом, и, следовательно, то, что происходит с нами, все больше предопределено извне, ситуациями, которые никто не в силах избежать, и что все больше и больше мы становимся похожи один на другого.
Поймите меня правильно. Если я вижу свое место вне так называемого психологического романа, это вовсе не означает, что я хочу лишить своих персонажей внутреннего мира. Это означает только то, что на первый план мои романы выдвигают другие загадки, другие проблемы. Это также не означает, что я против существования романов, проникнутых психологией. Изменение ситуации после Пруста вызывает у меня скорее ностальгию. После Пруста огромное пространство красоты медленно удаляется от нас. Навсегда и безвозвратно. Гомбрович как-то высказал мысль нелепую и в то же время гениальную. Вес нашего «я», сказал он, зависит от количества населения на планете. Так, Демокрит представлял собой одну четырехсотмиллионную человечества; Брамс одну миллиардную; сам Гомбрович одну двухмиллиардную. С точки зрения этой арифметики вес прустовской бесконечности, вес некоего «я», внутреннего мира этого «я» становится все легче. И в этом стремлении к легкости мы уже пересекли роковую границу.
К. С.: «Невыносимая легкость» «я» – это ваша навязчивая идея начиная с первых книг. Я вспоминаю, например, «Смешные любови», рассказ «Эдуард и Бог». После первой ночи любви с юной Алицей Эдуарда одолевает странная тревога, сыгравшая решающую роль в его судьбе: он смотрел на свою подругу и думал, «что ее убеждения были всего лишь прилепленными к ее судьбе, а судьба была прилепленной к ее телу, он вдруг увидел ее как случайное соединение тела, мыслей и потока жизни, соединение неорганичное, произвольное и нестойкое». И в другом рассказе «Ложный автостоп» девушка в последних абзацах повествования так взволнована сомнениями в своей собственной личности, что повторяет сквозь рыдания: «Я – это я, я – это я, я – это я…»