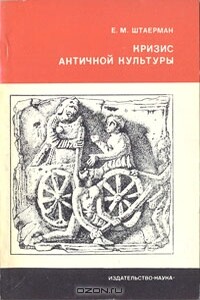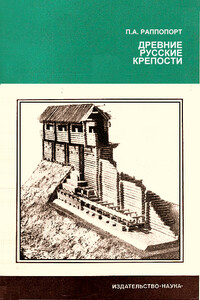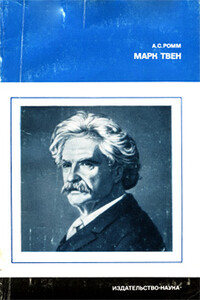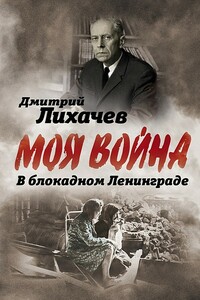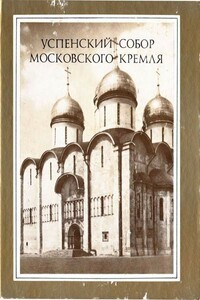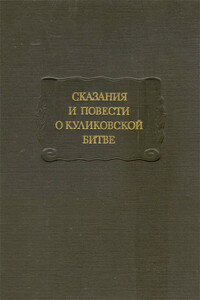"Смеховой мир" Древней Руси | страница 104
В русскую придворную культуру модификации этого архетипа попали из Византии. Как известно, византийский император, появляясь перед подданными, держал в руках не только символы власти, но также «акакию», мешочек с пылью, напоминавший о ничтожестве бренного человека. Как бы подражая Христу, император раз в год омывал ноги нескольким константинопольским нищим.[215] То же делал и патриарх всея Руси. Что касается царя, то в сочельник, рано утром, он посещал московские тюрьмы и богадельни. Вот описание царского выхода в канун Рождества 1664 г., спустя месяц и три дня после того, как юродивый Киприян подал Алексею Михайловичу челобитную ссыльного протопопа Аввакума. «Декабря в 24 числе за четыре часа до света… царь… изволил ходить на большой тюремный и на Аглинской дворы и жаловал своим государевым жалованьем, милостынею из своих государских рук на тюремном дворе тюремных сидельцев, а на Аглинском дворе полоняников, поляков и немец и черкас… Да великий же государь жаловал из своих государских рук, идучи от Аглинскаго двора, в Белом и Китае городех, милостынею… бедных и раненых солдат и нищих безщотно… Того ж числа ввечеру великий государь изволил итить к Зиновею разслабленному, который лежит у рождественскаго священника Никиты, и указал дати… Зиновею пять рублев».[216] Любопытно, что Алексей Михайлович ходил к Зиновею из года в год, пока тот был жив. Такое демонстративное постоянство говорит о том, что царь заботился о гласности своих «выходов». Он хотел, чтобы народ знал, где и когда государь общается с последним из своих подданных.
Отзвуки идеи тождества царя и изгоя есть и в древнерусском юродстве. Андрею Цареградскому было видение: он видел себя в раю в царских одеждах.[217] В одном из списков жития Василия Блаженного помещено «предразумление вводительно», своеобразный эпиграф. Это — текст из Апокалипсиса: «И сотворил есть нас цари и иереи богу и отцу своему: тому слава и держава во веки веков. Аминь» (Откровение Иоанна, гл. I, ст. 6).[218] Под царями здесь подразумеваются апостолы — им уподоблены юродивые вообще (и специально Василий Блаженный). Впрочем, учитывая функции эпиграфов, мы можем предположить, что в данном случае имеются в виду и цари в прямом смысле слова. Вспомним сцену государева пожалования из жития Арсения Новгородского (см. «Юродство как зрелище»). Арсений словно меняется местами с Иваном Грозным, юродивый становится выше царя. Грозный не в состоянии пожаловать Новгородом Арсения — значит, власть Грозного не безгранична, не абсолютна. Истинный «державец» города — бездомный, одетый в безобразное рубище бродяга-юродивый: «И не хотящим вам того, аз приемлю и´». Очень важна оговорка автора жития, касающаяся «неразумия» царя с царевичами. Юродивого, поясняет агиограф, понимает лишь тот, у кого «цел ум». Если Иван Грозный не уразумел смысла загадочных слов Арсения, то, следовательно, царь не «целоумен», он — мнимый мудрец, а бродячий дурак — мудрец настоящий. Все это, в свою очередь, имеет прямое отношение к «перемене мест».