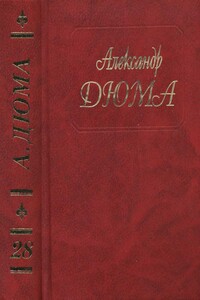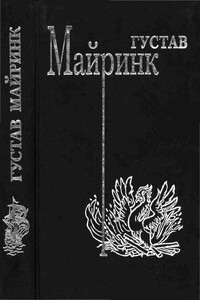Дача на Петергофской дороге | страница 2
Легкая ирония этого изящного признания не должна вводить в заблуждение — за ней искренняя убежденность в том, что словесность — не женское дело. Не иронией, а сарказмом проникнуты слова великого поэта о «семинаристе в желтой шали иль академике в чепце». Именно на эти строки опирается, их приводит в пример В. Г. Белинский в своем раннем критическом отзыве на попытки писательниц утвердиться в литературе. Здесь будущий страстный борец за женское равноправие пишет: «Женщина должна любить искусства, но любить их для наслаждения, а не для того, чтоб самой быть художником. Нет, никогда женщина-автор не может ни любить, ни быть женою и матерью».[1]
Таким был общественный фон, уровень господствующих взглядов, когда за признание своего человеческого и творческого равноправия выступили женщины-писательницы, что называется, с пером наперевес. Утверждение женщин-писательниц в литературном процессе в 30-е годы XIX века вызвало бурный общественный резонанс, долгие годы не прекращавшиеся сшибки мнений, полемику, обнаружившую поначалу не очевидный социально-политический смысл. Это были дебаты не только и не столько о достоинствах конкретных произведений — это был спор о месте женщины в обществе, о проблемах женского равноправия, о гражданской, умственной, творческой полноценности половины рода человеческого.
Выход на страницы широкочитаемых журналов плеяды писательниц романтического направления, содержание их произведений сделало отчетливо наглядным существование в России «женского вопроса», который бурно обсуждался затем почти в течение века и был решен лишь Октябрьской социалистической революцией. Повести, представленные в этой книге, созданы как бы на одном дыхании, одушевлены общим пафосом. Это тем более примечательно, что собранные здесь авторы далеко не все лично знали друг друга или имели творческие контакты. Их разделяли сословные различия, степень родовитости, знатности, богатства.
Тем более удивительна общность их творческого одухотворения. Впрочем, удивительна ли? Участь женщины в России имела много сходства в любом из сословий. Социальную неполноценность женщины утверждал свод законов Российской империи, где, к примеру, крестьян исчисляли лишь душами «мужеска полу». Интеллектуальное неравноправие женщины укореняла вся система образования в «просвещенном» государстве, где почти до конца XIX века высшее образование для девушек оставалось «табу». Ущербность женщины настойчиво утверждала религиозная идеология.