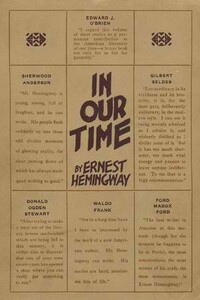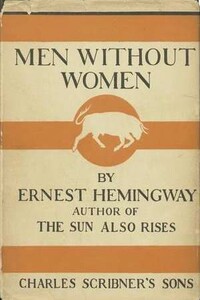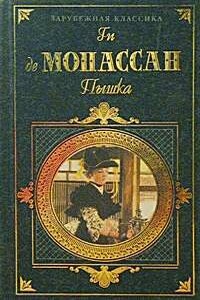Дача на Петергофской дороге | страница 14
Из «вопроса» социальная заинтересованность в судьбах женщин стала «движением» — нарастающей борьбой с неравноправным положением половины человечества. Это движение — неотъемлемый и значимый компонент развития революционных ситуаций 60-х, а впоследствии и 80-х годов.
Заключающее книгу произведение лишь косвенно передает напряженность наступившего времени уже потому, что действие в нем отнесено к концу XVIII века. И все же передает, потому что несет горячее слово в защиту достоинства женской личности. Здесь вновь тайный брак, вновь бегство от деспотизма главы семьи, сюжетно напоминающие повесть Н. Дуровой «Угол». Но как изменилась художественная трактовка сюжета! Насколько жизненней, рельефнее, сочнее выписана у Н. Соханской ситуация, полнокровнее действующие лица, убедительнее развитие конфликта. Русская литература вступила в пору расцвета реалистического метода. И наряду со всемирно известными его корифеями важную лепту в утверждение принципов «натуральной школы» внесли и малоизвестные ныне писатели и писательницы. Н. Соханская (псевдоним Кохановская) — одна из таковых. В пору выхода ее произведений «После обеда в гостях», «Кирилла Петров и Настасья Дмитровна», «Из провинциальной галереи портретов» критики писали: «Родник, откуда точится содержание повестей г-жи Кохановской… это — народная жизнь. В разбираемых повестях слышно не простое только знакомство с нею и не внешнее только сочувствие, но внутренняя близость к ней и положительное усвоение… Мы столько ценим этот новый прекрасный талант, что, признаемся, страшно дрожим за губительное действие внешних указаний и всякого авторского развлечения похвалой или осуждением»[15].
Сходные мнения о художественных достоинствах рецензируемых произведений писательницы высказали Д. И. Писарев и М. Е. Салтыков-Щедрин. Отмечены были и ноты идеализации патриархальной старины, мешающие глубине реалистического исследования.
Н. С. Соханская настороженно относилась и к похвале, и к осуждениям. Они не столько «развлекали» ее, как того опасался критик из «Русской беседы», сколько побуждали — в случае неубедительности — на резкий протест. Показательна полемика, вызванная недооценкой рецензентами фигуры Власа Никандровича, упреком в ее карикатурности. Писательница страстно возражала: «Влас Никандрович не карикатура, нет. Он вам и смешон немножко, и жалок. И вы можете пожалеть его. Он лучшее, что могло быть, лучший, хотя чрезвычайно тонкий и жалкий стебель той сорной нивы, которую обсеменял своей барской милостью Гаврила Михайлович. У Власа Никандровича все лучшие задатки человеческой природы, и это не его вина, а его безвинное горе, что жил он в такое время и в таком обществе, которое не знало людей, а знало только больших бар с их мелкими прихлебателями и приживателями и затем целый мир холопов… Нет, Влас Никандрович не карикатура, а он одна из тех личностей, на которые поэт такой глубокий, как Гоголь, мог смотреть сквозь видимый миру смех и незримые слезы»