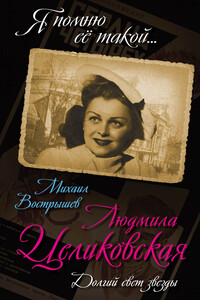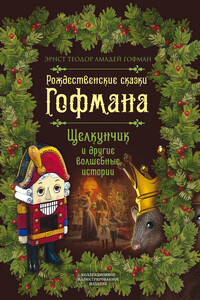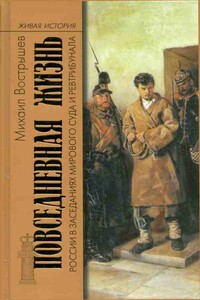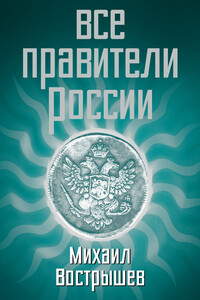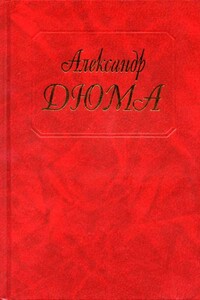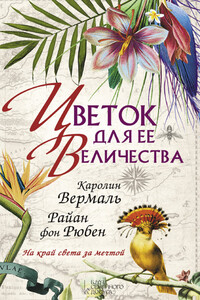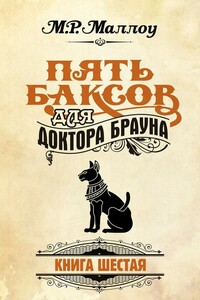Популярная история КПСС. 1898 – 1991 годы. От расцвета до запрета | страница 42
Главной заповедью классовой борьбы Ленин называет разрушение капитализма изнутри. Он призывает заниматься приспособленчеством, хотя сам в эмигрантские годы придерживался совершенно иного правила: никакого сближения с другими партиями. Он всегда отказывался сотрудничать даже с фракциями своей большевистской партии, если те позволяли себе хоть малейшее неповиновение ему.
Эта брошюра — самообольщение Ленина, что и в других странах вот-вот будет тоже, что произошло с Россией. Те немногочисленные люди в Европе, прочитавшие размышления «пролетария без пролетарского происхождения», наверное, посмеялись над ними.
Первомай 1920 года проходил под лозунгами всероссийского коммунистического субботника. Газеты умилительно писали об участии в физических работах самого Ленина, тащившего на плече в компании с семью товарищами бревно. Он трудился на уборке Драгунского плаца в Кремле от камней и бревен в паре с комиссаром И.И. Борисовым. Но сил трудовой субботник у него не убавил, во второй половине дня он выступал на закладке памятника Карлу Марксу на площади Свердлова, еще недавно носившей название улица Охотный ряд, скульптурной композиции «Освобожденный труд» на Пречистенской набережной, потом участвовал в нескольких митингах в разных частях города.
Ленин на трибуне — символ революции, трибуна становится театральной сценой, на которой разворачивается спектакль одного актера. Это всего лишь представление, о чем поведал, не желая, конечно, создавать такое впечатление, обладавший литературными дарованиями Лев Троцкий: «Когда я мысленно пытаюсь свежим взглядом и свежим ухом как бы в первый раз увидеть и услышать Ленина на трибуне, я вижу крепкую и внутренне эластичную фигуру небольшого роста и слышу ровный, плавный, очень быстрый, чуть картавый, непрерывный, почти без пауз и на первых порах без особой интонации голос.
Первые фразы обычно общи, тон нащупывающий, вся фигура как бы не нашла еще своего равновесия, жест не оформлен, взгляд ушел в себя, в лице скорее угрюмость и как бы даже досада — мысль ищет подхода к аудитории. Этот вступительный период длится то больше, то меньше — смотря по аудитории, по теме, по настроению оратора. Но вот он попал на зарубку. Тема начинает вырисовываться. Оратор наклоняет верхнюю часть туловища вперед, заложив большие пальцы рук за вырезы жилета. И от этого двойного движения сразу выступают вперед голова и руки. Голова сама по себе не кажется большой на этом невысоком, но крепком, ладно сколоченном, ритмическом теле. Но огромными кажутся на голове лоб и голые выпуклины черепа. Руки очень подвижны, однако, без суетливости или нервозности. Кисть широкая, короткопалая, “плебейская”, крепкая. В ней, в этой кисти, те же черты надежности и мужественного добродушия, что и во всей фигуре. Чтоб дать разглядеть это, нужно, однако, оратору осветиться изнутри, разгадав хитрость противника, или самому с успехом заманить его в ловушку. Тогда из-под могучего лобно-черепного навеса выступают ленинские глаза, которые чуть-чуть переданы на одной счастливой фотографии 1919 г. Даже безразличный слушатель, поймав впервые этот взор, настораживался и ждал, что будет дальше. Угловатые скулы освещались и смягчались в такие моменты крепко умной снисходительностью, за которой чувствовалось большое знание людей, отношений, обстановки — до самой что ни на есть глубокой подоплеки. Нижняя часть лица с рыжевато-сероватой растительностью как бы оставалась в тени. Голос смягчался, получал большую гибкость и — моментами — лукавую вкрадчивость.