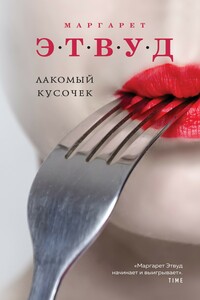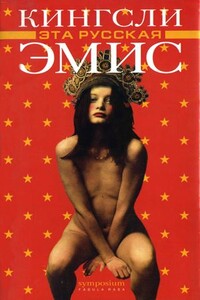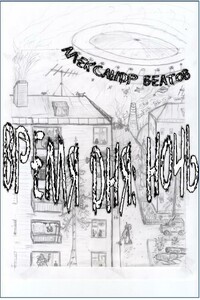Ущерб тела | страница 31
– И смех и грех, – сказала другая.
– Без смеха тут свихнешься, – сказала мать, как всегда подпуская толику укоризны.
Это их отрезвило. Тетки знали, что ее жизнь, точнее, отсутствие жизни позволяло жить им.
Вскоре бабушка начала терять чувство равновесия. Она вставала на стулья и табуретки, чтобы достать какую-то вещь, как правило слишком тяжелую, и в результате падала. Обычно она проделывала это в мамино отсутствие, и та, вернувшись, обнаруживала беспомощную бабушку на полу, среди осколков фарфора.
Затем ее стала подводить память. Она ходила ночью по дому, хлопая дверьми в поисках своей комнаты. Порой она не помнила, кто она сама и кто мы такие. Однажды она напугала меня до чертиков, когда вдруг вошла в кухню средь бела дня, я как раз делала себе бутерброд с арахисовым маслом после школы.
– Где же мои руки, – сказала она. – Я куда-то их сунула и теперь не могу найти.
Она держала кисти на весу, растерянно, словно не могла ими пошевелить.
– Вот же они, – сказала я. – На твоих запястьях.
– Да нет, не эти, – нетерпеливо сказала она. – Они больше не годятся. Другие руки, которые были у меня раньше, которыми я все трогала.
Тетки наблюдали за ней из кухни через окно, когда она бродила по двору, продираясь сквозь тронутые инеем остатки сада, ухаживать за которым у моей матери больше не было времени. Когда-то тут были сплошь цветы и циннии, а по длинным столбам вилась ярко-алая фасоль, которая привлекала колибри. Бабушка однажды сказала мне, что так выглядит рай: если я буду хорошей-хорошей, то заслужу вечную жизнь и попаду в место, где всегда цветут цветы. Кажется, я серьезно в это верила. А моя мать и тетки нет, хотя мать посещала церковь, а когда приезжали тетки, они все вместе пели гимны после ужина, моя посуду.
– Кажется, она думает, что он все еще там, – сказала тетя Уиннипег. – Смотрите! Да она сейчас в ледышку превратится.
– Сдай ее в дом престарелых, – сказала другая тетя, глядя в мамино лицо, изможденное, с темными полукружьями под глазами.
– Не могу, – отвечала мама. – Бывают дни, когда она абсолютно в здравом уме. Это сведет ее в могилу.
– Если я когда-нибудь стану такой, уведите меня в поле и пристрелите, – сказала другая тетя.
В то время я могла думать только об одном: как бы сбежать из Гризвольда. Я не хотела попасть в западню, как мать. Хотя я восхищалась ею – ведь все говорили мне, что она достойна восхищения, почти святая, – я не хотела стать похожей на нее, ни в чем. Не хотела я и иметь семью, быть чьей-то матерью; у меня не было подобных стремлений. Я не хотела владеть вещами или наследовать их. Не хотела ни с чем справляться. Не хотела сдавать. Я стала молиться, чтобы не жить так долго, как бабушка, – и вот, по всей видимости, не буду.