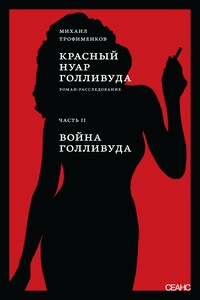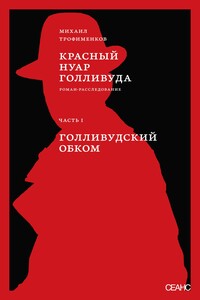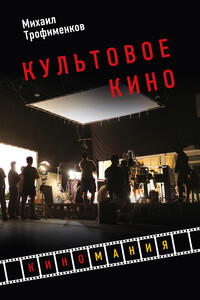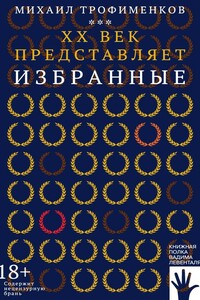Кино и история. 100 самых обсуждаемых исторических фильмов | страница 17
Каждый из них носит имя реального участника казымских событий, но это, так сказать, земные имена. Товарищам они кажутся: кто председателем Березовского райисполкома, кто начальником «интегрального товарищества» (такая контора, пушнину заготавливает). Но в каждом из них скрыт один из духов, «элементов», как сказал бы Люк Бессон, революции. У каждого из этих духов есть исторический прототип, не столько выламывавшийся из рамок реальности, сколько эти рамки выламывавший по своему титаническому капризу.
Пантеон прототипов подобран с чувством и вкусом истории. Полина – и уполномоченная обкома, и Лариса Рейснер, гениальный летописец и певец революции, которую современные публицисты – мстят, демоны, за красоту, юность и дар – превратили в персонажа пошлых сплетен. Чекист Иван – еще и Арсений Авраамов, писавший симфонии для заводских гудков, пароходов и паровозов. Чекист Захар – немного скульптор Степан Эрьзя. Предисполкома Петр – Эйзенштейн, которому мексиканские повстанцы, озабоченные, чтобы на экране все было как в жизни, волокут на съемочную площадку отрезанные головы. Завкультбазой Смирнов – Освальд Глазунов, однажды узнавший, что его театр, московский латышский революционный театр «Скатуве», стал призраком: труппу расстреляли в одночасье. Человек-Франкенштейн по имени Николай – тот, что из «интегрального товарищества», – Никифор Тамонькин, зодчий первого советского крематория и певец гигиенического огненного погребения. На окраине фильма появился еще и человек, похожий на Льва Термена, но оказался контриком, хотя и очаровательным. Таких не берут в ангелы.
Мятеж, очевидно, вызвали экономические причины: коллективизация, то да се. В «Ангелах» он носит культурный и магический характер. Магический – поскольку Полина вызвала на поединок местную богиню. Культурный – поскольку революция была культурной даже в большей мере, чем социальной. Экономику преобразовывали по уже прописанным рецептам. А вот порывы вырвавшихся на свободу гениев предсказать не мог никто. Ленин уж точно не думал ни о башне III Интернационала (Владимир Татлин), ни о городе Сатурнии, кольцом опоясывающем Землю (Виктор Калмыков), ни об экранизации «Капитала» (Эйзенштейн).
В концентрации гениев-утопистов в годы революции было что-то нечеловеческое. Алексей Лосев, говоря о гениях Ренессанса, употреблял термин «титанизм»: он уместен и тут. Но ангелы – не столько титаны, сколько дети. И пространство они не ломают. Пространство – вот загадка фильма. Оно ненавязчиво, но радикально изменчиво, словно лепит само себя, как из пластилина. Разговор, начавшийся в одном измерении, может продолжиться в совсем ином. Кажется, что вообще ни одна сущность не имеет завершенной формы. Наверное, такое движение пространственных пластов – главная метафора революции, не подчиняющейся даже ангелам, не то что людям.