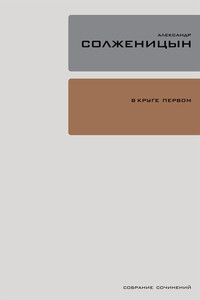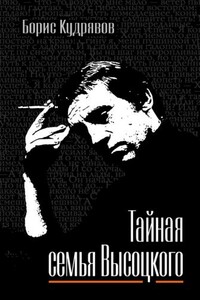Бодался телёнок с дубом | страница 6
Очень устойчивое, и даже радостное, и даже торжествующее настроение было у меня все эти годы подпольного писания - пять лет лагеря до моей болезни и семь лет ссылки и воли, "второй жизни" после удивительного выздоровления. Существовавшая и трубившая литература, её десяток толстых журналов, две литературных газеты, её бесчисленные сборники, и отдельные романы, и собрания сочинений, и ежегодные премии, и радиоинсценировки нуднейших сочинений раз и навсегда были признаны мною ненастоящими, и я не терял времени и не раздражался за ними следить: я заранее знал, что в них не может быть ничего достойного. Не потому, чтобы там не могло зародиться талантов - наверное, они были там, но там же и гибли. Ибо не то у них было поле, по которому они сеяли: знал я, что по полю тому ничего вырасти не может. Едва только вступая в литературу, все они - и социальные романисты, и патетические драматурги, и поэты общественные и уж тем более публицисты и критики, все они соглашались обо всяком предмете и деле не говорить главной правды, той, которая людям в очи лезет и без литературы. Эта клятва воздержания от правды называлась соцреализмом. И даже поэты любовные, и даже лирики, для безопасности ушедшие в природу или в изящную романтику, все они были обречённо-ущербны за свою несмелость коснуться главной правды.
И ещё с тем убеждением прожил я годы подпольного писательства, что я не один такой сдержанный и хитрый. Что десятков несколько нас таких замкнутых упорных одиночек, рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то, что знает о нашем времени и что есть главная правда составляют её не только тюрьмы, расстрелы, лагеря и ссылки, хотя совсем их обойдя, тоже главной правды не выпишешь. Несколько десятков нас таких, и всем дышать нелегко, но до времени никак нельзя нам открыться даже друг другу. А вот придёт пора - и все мы разом выступим из глуби моря, как Тридцать Три богатыря, - и так восстановится великая наша литература, которую мы спихнули на морское дно при Великом Переломе, а может ещё и раньше.
И третье было убеждение: что это лишь посмертный символ будет, как мы, шлемоблещущая рать, подыматься будем из моря. Что это будут лишь наши книги, сохранённые верностью и хитростью друзей, а не сами мы, не наши тела: сами мы прежде того умрем. Я всё ещё не верил, что сотрясение общества сможет вызвать и начать литература (хотя не русская ли история именно это нам уже показала?!). Я думал, что вздрогнет и даже обновится общество от других причин, так появится щель, пролом свободы и туда-то сразу двинется наша подпольная литература - объяснить потерянным и смятенным умам: почему всё это непременно должно было так случиться и как это с 17-го года вьётся и вяжется.