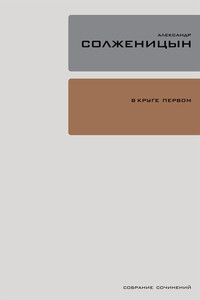Бодался телёнок с дубом | страница 41
Мне он сказал, что ему не нравятся не только сами стихи, "слишком пастернаковские", но даже тa подробность, что он вскрывал конверт, надеясь имён, что-то свежее от меня. Шаламову же написал, что стихи "Из колымских тетрадей" ему не нравятся решительно, это - не тa поэзия, которая могла бы тронуть сердце нашего читателя.
Стал я объяснять Твардовскому, что это - не "интрига" Шалимова, что я сам предложил ему сделать подборку и передать через меня, - нисколько не поверил Твардовский! Он удивительно бывал невосприимчив к простым объяснениям. Так и осталась у него уверенность в кознях Шаламова, играющего мной.
Второй раз (уже осенью 1964) мне досталось напористо побуждать редколлегию напечатать "Очерки по истории генетики" Ж. Медведева. В них было популярное изложение неизвестной народу сути генетической дискуссии, но ещё больше там был - накал и клич против несправедливости на материале вполне уже легальном, а между тем клич этот разбуживал общественное сердцебиение. И книга эта что называется "единодушно нравилась" редакции (ну, Дементьев-то был против), и на заседании редакции Твардовский просил меня прекратить поток аргументов, потому что "уже убеждены" все. И только "о небольших сокращениях" они просили автора; а потом о больших; а потом "потерпеть несколько месяцев" - да так и заколодило. Потому что эта книга "выдавала" свободу мысли ещё не разрешённой порцией.
Непростительным же считал Твардовский и что с "Оленем и шалашовкой" я посмел обратиться к "Современнику". Обида в груди А. Т. не покоилась, не тускнела, но шевелилась. Он много раз без необходимости возвращался к этому случаю и уже не просто порицал пьесу, не просто говорил о ней недоброжелательно, но предсказывал, что пьеса не увидит света, то есть выражал веру в защитную прочность цензурных надолб. Более того, он сказал мне (16 февраля 1963 г., через три месяца от кульминации нашего сотрудничества!):
- Я не то, чтобы запретил вашу пьесу, если б это от меня зависело... Я бы написал против неё статью... да даже бы и запретил.
Когда он говорил недобрые фразы, его глаза холодели, даже белели, и это было совсем новое лицо, уже нисколько не детское. (А ведь для чего запретить? - чтоб моё имя поберечь, побуждения добрые...)
Я напомнил:
- Но ведь вы же сами советовали Никите Сергеевичу отменить цензуру на художественные произведения?
Ничего не ответил. Но и душой не согласился, нет, внутренне у него это как-то увязывалось. Раз вещь была не по нему - отчего не задержать её и силой государственной власти?..