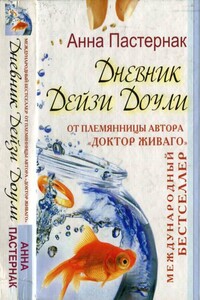Лара. Нерассказанная история любви, вдохновившая на создание «Доктора Живаго» | страница 36
Через неделю после смерти Розалии разразилась мировая война. Леонид прожил остаток жизни в Оксфорде, окруженный дочерьми и внуками. Он больше ни разу не видел своих сыновей, Бориса и Александра.
Во время войны Борис активно участвовал [в гражданской обороне] на Волхонке в качестве пожарного наблюдателя. Несколько раз он тушил зажигательные бомбы, падавшие на крышу семейной квартиры Пастернаков. Вместе с другими москвичами он занимался строевой подготовкой, пожарным наблюдением и обучался навыкам стрельбы, с удовольствием обнаружив, что у него есть задатки меткого стрелка. Несмотря на войну, Борис наслаждался мгновениями счастья, чувствуя, что трудится вместе с другими в интересах России и выживания ее народа. Однако посреди этой атмосферы товарищества его не покидала постоянная боль – результат «длительного невыносимого разделения» с родными.
Леонид Пастернак умер 31 мая 1945 года, спустя считаные недели после окончательной победы России в войне. «Когда умерла мама[98], словно гармония покинула этот мир, – говорила Жозефина. – Когда умер отец, казалось, его покинула истина». Узнав о смерти Леонида, Борис пролил «океан слез»[99] (в своих письмах он часто называл его «мой чудо-папа»). Писателя глубоко расстраивало то, что он не был способен на такую редкую глубину чувств и долгую, гармоничную супружескую любовь, которую питали друг к другу его родители. В большей части писем к отцу он сетует на собственные эмоциональные изъяны, бесконечно занимаясь словесным самобичеванием («Я словно околдован,[100] словно сам наложил на себя проклятье. Я разрушаю жизнь своей семьи») и безжалостно выставляя напоказ острое чувство вины, терзающее его, как непрерывная лихорадка.
Учитывая, с каким глубоким уважением Борис относился к своим родителям и как любил брата и сестер, его решение остаться в Советской России и жить отдельно от них кажется удивительным. Несмотря на невыносимый гнет сталинской цензуры 1920–1930-х годов, он и не думал покидать Россию. 2 февраля 1932 года он писал родителям о своем долге перед возлюбленной «отчизной»: «Эта судьба не принадлежать[101] самому себе, жить в тюремной камере, охраняемой со всех сторон, – она преображает, делает пленником времени. Ибо и в этом тоже кроется первобытная жестокость бедной России: стоит ей возлюбить кого-то, как ее возлюбленный навеки остается у ней на глазах. Словно стоит перед нею на римской арене, вынужденный поставлять ей зрелища в обмен на ее любовь».