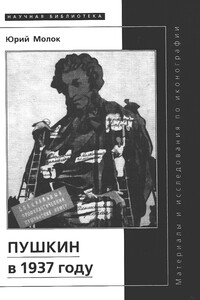1937 | страница 9
14/IV
Начинал работать и не мог подойти к письменному столу. Отвращение к письму, к тому, что он делает, неверие в себя, все казалось плохо и неумно. Он ложился в постель и лежал. Тянулись сны или воспоминания, он сам не понимал, что с ним такое; сны были короткими, странными, тело тяжелело и просило отдыха, он заставлял себя подыматься и ложился вновь.
Потом он понял, что это усталость, что мозг отказывается думать — и подчинился телу. И тогда потянулись дни сладкого и томительного безделья, он спал, лежал просто так, читал хорошие книги, умилялся жизни людей в них, но сам не хотел ни жить, ни чувствовать, а только спать или быть одному в постели.
Потом его потянуло на воздух, он одевался медленно, расслабленный и успокоившийся, он шел вялой походкой усталого человека по шумным улицам, сидел на набережной, смотрел на широкую реку и ее жизнь, и снова мир возвращался в душу.
Где-то происходили события, люди сновали по коридорам гостиницы, приезжали, делали свои дела, спешили и волновались, только он жил странной и блаженной жизнью — никому не завидуя, ничего не желая, кроме отдыха…
Но настал день, когда в одну из таких прогулок он увидел девушку, ее ноги в красивых тугих чулках, быстрый взгляд и смелую походку. И его глаза блеснули от удовольствия, он проводил ее со вздохом сожаления, вот никогда не встретятся, наверное, а жаль… И придя к себе в номер, снова почувствовал и силы, и желание работать…
16/IV
Жена А. Толстого пришла на концерт, шелестя шелком особенного черного с красным платья. Соседка ее подсчитала — двенадцать черно-бурых лисиц пошло на роскошный ее палантин. Муж сидел рядом, похудевший, счастливый, жадный. Он так и не отпускал ее от себя и все смотрел по сторонам — не ушла ли она куда-нибудь слишком близко к молодым людям.
Ему хотелось, чтобы его заперли в тюрьму или больницу, одного, ото всех людей, а главное, от него самого, потому что он чувствовал себя бессильным закончить работу, не умел или что-то выпало из него, но только ему хотелось уйти и замкнуться, чтобы забыть о своей профессии и жить совсем другой, пускай совсем не похожей, плохой, но другой жизнью. Тогда у него не было бы мук совести от того, что ему не удается сделать лучше свою работу — все это отпало бы, он просто жил бы, как все, борясь за жизнь и право на хлеб и ночлег.
По утрам у него болели виски, и голова была мутной от напряжения. Сон не облегчал, а утомлял. Вдобавок вдруг одеревянела кожа на левой ноге, и он щипал ее и колол, чтобы восстановить чувствительность, — и напрасно. Но он даже не встревожился, ему просто хотелось уйти совсем, может быть, даже из жизни, ставшей вдруг совершенно неинтересной потому, что главное в жизни — его работа, его творчество — казалось ему утерянным для него уже навсегда.