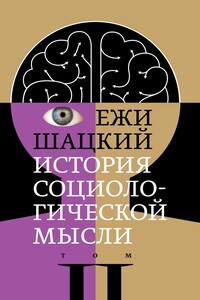Цензоры за работой. Как государство формирует литературу | страница 31
Эта монополия была сравнительно новым явлением. В Средние века корона предоставляла право надзора за книготорговлей Парижскому университету, который в первую очередь был озабочен точностью копий, предоставляемых скрипториями. После подъема Реформации Сорбонна продолжала контролировать выход книг, но она не справлялась с потоком протестантских сочинений. Корона попыталась решить проблему в 1535 году, постановив, что, если кто бы то ни было напечатает что бы то ни было такое, его повесят. Это не помогло. За следующие 150 лет государство наращивало собственный репрессивный аппарат, уменьшая полномочия церкви. Муленский эдикт (1566) требовал, чтобы все книги перед изданием снабжались королевской привилегией, а «кодекс Мишо» (1629) устанавливал механизм цензуры через королевских цензоров под властью Канцелярии. К концу XVII века государство укрепило свою власть над издательским делом, и университет перестал играть здесь какую-либо существенную роль, но епископы и парламенты продолжали запрещать книги после их выхода, издавая mandements и arrêtés (епископские послания и парламентские эдикты). Конечно, у этих документов не было особенного эффекта, если только они не выходили в момент кризиса[121].
Самые серьезные проблемы возникли в связи с изданием трактата «Об уме» Клода Адриана Гельвеция в 1758 году[122]. Ни одна книга не вызвала столько негодования со стороны претендентов на место цензоров: эдикт парижского парламента, резолюцию Генеральной ассамблеи церкви Франции, mandement архиепископа Парижского, похожие возмущенные письма других епископов, осуждение Сорбонны, бреве папы и предписание Королевского совета. В книге «Об уме», безусловно, содержалось достаточно вызывающего – материалистическая метафизика, утилитарная этика, неортодоксальная политическая теория – чтобы вызвать осуждение у любого приверженца традиционных воззрений. Но переполох с ее осуждением свидетельствует о большем, чем праведный гнев. Каждое высказывание против книги было посягательством на авторитет администрации и попыткой присвоить себе его часть. Конечно, скандальные работы выходили и до этого, но они распространялись по подпольным каналам книготорговли. «Об уме» продавалась открыто, с королевской привилегией и апробацией.
Ее цензором был Жан-Пьер Терсье, главный чиновник в Министерстве иностранных дел. Поглощенный дипломатической бурей, которую породила Семилетняя война, Терсье не мог уделить время абстрактной философии и едва ли был способен понять ее. Обычно он проверял книги, связанные с историей и международными отношениями. Чтобы окончательно его запутать, рукопись была предоставлена Терсье в нескольких пачках и не в порядке изложения, что сильно затрудняло возможность проследить за ходом мысли. И его уговаривала поторопиться госпожа Гельвеций, ослепительная красавица, пустившая в ход свои чары на званом обеде и умолявшая закончить до того, как они с мужем должны будут покинуть загородный дом. В конце концов Терсье дал книге полную апробацию, которая была напечатана вместе с королевской привилегией. Атеистический труд со знаками королевского одобрения! Скандал мог быть воспринят как нечто более серьезное, чем бюрократическая ошибка: он означал, что цензура слишком важна, чтобы доверять ее королевским цензорам и что следует предоставить сторонним силам некоторый контроль над тем, что попадает в Управление книготорговли.