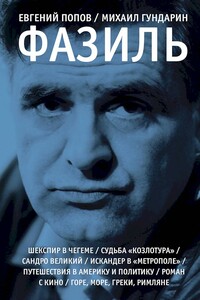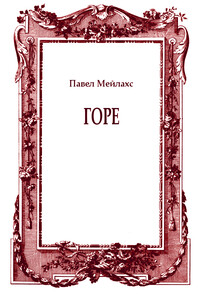Как жаль, что так поздно, Париж! | страница 41
Помню, как мы с Левинским встретили на Невском Бориса Зеликсона, одного из тех, кто отсидел в лагере за то самое сочинение «От диктатуры бюрократии – к диктатуре пролетариата». Борис вытащил из туго набитого портфеля большую амбарную книгу и прямо на Невском прочел нам целую лекцию о «текущем моменте». Его, как и нас, захлестывала эйфория. А вот Фрезинского – нет. Когда на дне рождения у Зябловой Зеликсон заявил, что «если Горбачев отступится, я на него с вилами пойду», Фрезинский заметил скептически: «Боря, ты уже ходил с вилами».
Все-таки это еще было время споров, время надежд. Сейчас уже никто ни о чем не спорит. «Умрем при Путине», – как сказал все тот же Фрезинский.
А Зеликсон и в самом деле умер при Путине. На его похоронах выступали академики из Москвы и бывшие диссиденты из Петербурга. Какими они выглядели (хоть и обидно это говорить) бедными и жалкими, в каких-то потертых пиджаках. Не про них эта новая жизнь, не для них. А ведь это они (они тоже!) приближали ее как могли, боролись (пусть наивно, не всегда различая дороги), страдали нешуточно. Но вот уж воистину «победитель не получает ничего». И уж конечно, никакого удовлетворения от нынешней картины мира. За что боролись?
До сих пор не люблю Суворовский проспект и улицу Шпалерную (бывшую ул. Воинова) – это все дороги в Смольный, где «как я ни мучал себя по чужому подобью», все равно всегда оставалась белой вороной и не люблю вспоминать эти годы. Нет, не работу, конечно, не людей в «Ленинградском рабочем», а именно Смольный.
Работа мне как раз ужасно нравилась, и когда меня в конце концов выгнали, именно работы было жалко больше всего. Когда из «Авроры» выгнали, работы-то как раз меньше было жалко. Журнал – не газета.
Почему меня все время выгоняли? Все-таки это странно. Меня, так любившую работать?
Историю с рассказом Голявкина, из-за которого, как думают все, меня и выгнали из «Авроры», изображают кому как вздумается. Никто так не врет, как очевидцы, – это известно. Мы-то (Люда Региня, Люда Будашевская, Леня Левинский и я) помним, как все начиналось и чем закончилось.
13 мая 1981 года умерла мама. В тот день мы привезли ее из больницы, постель была уже приготовлена. «Поверните меня на бок», – попросила мама. И тут началась смерть. Мама что-то силилась сказать нам, своим дочерям, как будто объяснить что-то, уже известное ей. И вот эта последняя фраза костенеющим языком: «Я умираю» – и больше ничего…
В один из дней позвонила Наталья Крымова. Мы тогда еще даже ни разу не виделись, но по телефону общались бесконечно: ее статья «О Высоцком» шла в «Авроре». Вернее было бы сказать так: ее статью «О Высоцком» я, как бурлак баржу, тащила сквозь мыслимые и немыслимые цензурно-партийные рифы. Придирались к каждой фразе, а Крымова не соглашалась на поправки, а я металась между обкомом (неким Барабанщиковым) и телефонными переговорами.