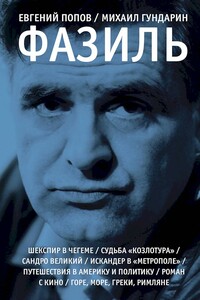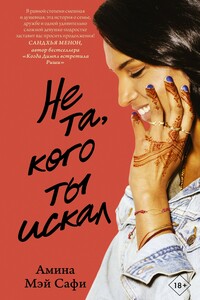Как жаль, что так поздно, Париж! | страница 20
– Дуры! – говорил он нам. – Что вы понимаете? Этот – просто дерьмо.
У него очень многие были «просто дерьмо».
– Не злобствуй, – говорила ему в таких случаях Инга, а глаза у нее смеялись.
Они всегда смеялись, когда она смотрела на него. Даже когда сердилась – смеялись. И когда плакала. Честное слово, когда она плакала, глаза непостижимым образом смеялись, если она смотрела на него.
Никогда больше я такого не видела. Да и никто из нас. Это была уже не любовь, а всепоглощение какое-то. Но любовь всегда – всепоглощение. Только у Инги она была – без дна.
…Мы все-таки пили в тот вечер. Максим просто не мог допустить, чтобы мы не выпили по такому серьезному поводу.
Мы сидели притихшие и грустные, а Максим шумно радовался, и было видно, что он чувствует себя виноватым перед Платоном, навеки виноватым за то, что учился в другом семинаре.
Потом наступили стихи. Я не знаю, как назвать это иначе. Но вот наступает день, и вы живете в этом дне, принимая в себя его суету, и горечь, и радости. Так приняли мы стихи Платона. Мы жили в них. Долгие дни и месяцы мы просто жили в них.
– Прочти, – просили мы его.
И он читал. Охотно, красиво, безудержно.
Мы росли, небогатые стихами. Многое из того, что теперь знают все, впервые открыл нам Максим. «В университете вам этого не расскажут», – говорил он, начиная наши ежевечерние «стиховые бдения». Читал он глуховатым голосом, вытягивая строку, как поэт: «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»
Он и начинал как поэт, а потом, уже в институте, стал писать рассказы – плохие рассказы, – в которых всегда были какие-нибудь удачные, запоминающиеся фразы. Иногда они – из рассказов – становились нашими.
– Не устраивайте митинг в Крыжополе.
Иногда, наоборот, наши фразы переходили в его рассказы. Сам он был умней и талантливей всего, что писал. И наверно, понимал это.
– Просто плохой рассказ, – говорил он иногда, прочтя вслух только что законченную работу.
Инга страдала.
– Ну почему ты так безжалостен к себе?
– Я же знаю, старуха, это просто плохой рассказ.
Еще чаще он говорил это о других.
– Просто плохие стихи.
– Дерьмо это, а не прозаик.
Может быть, писатель должен быть добр? К себе, к другим. Вообще – добр. Максим не был добр. Это ему мешало. И в рассказах, и в жизни.