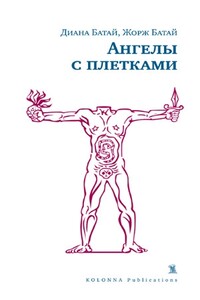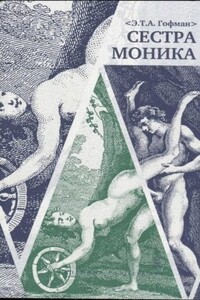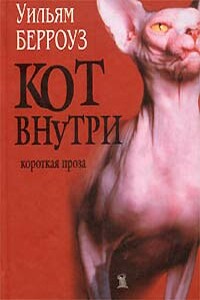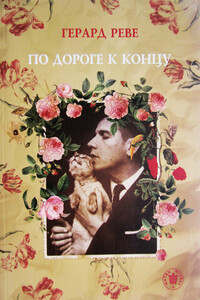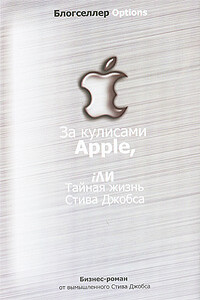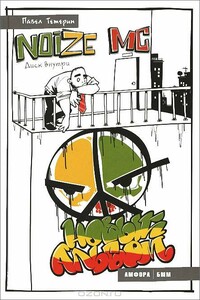Мать и сын | страница 21
Это был загадочный человек, человек с двойной душой, расщепленная личность, человек-половинка — подвести его под общий знаменатель, который подошел бы к нему в совершенстве, было невозможно. В нем не наблюдалось и не ощущалось ничего, что не было бы добродетельным, и человеком с двойным дном — в смысле коварства или ненадежности — его ни в коей мере нельзя было назвать. И все же в нем было «что-то не то». Выражаемые им взгляды — ни о каком расчете при этом не шло и речи — были подлинными и в то же время ненастоящими. Не бывает такого, скажете вы. И правда, не бывает, и все же это было именно так. Подобное раздвоение его личности (слово «двуличие» я категорически отметаю, ибо оно предполагает некую расчетливую хитрость, а я весьма далек от того, чтобы попрекнуть его этим), каковое я полностью осознал лишь много позже, встретившись с ним уже взрослым человеком, — невольно, однако неизбежно отражалось на моих чувствах к нему: я его обожал, я считал его милейшим изо всех наших учителей, и в то же время в душе моей таилось некое боязливое отвращение к нему. Это был парадокс весьма явственного обаяния индивидуальности, которая никак не могла оформиться в индивидуальность истинную и цельную. Лишь много, много позже, с чрезвычайно осмотрительной оглядкой и перетолковыванием всего, что тогда, в мои школьные годы, я истолковать не мог, я осознал, что он, при всем своем юморе, блеске и эрудиции, ни разу в жизни не позволил себе выказать личный вкус или суждение. Позволял ли он другим предписывать себе вкусы и суждения и примерял ли их на себя с тем, чтобы воспользоваться ими, подобно тем многим, что всегда пристально следят, откуда ветер дует? Нет: все было не так просто. У него не имелось ни собственных вкусов, ни собственных суждений, но он прописывал себе те вкусы и суждения, которые, по его мнению, ему подобали: в его обезличенности это была, по-видимому, единственная индивидуальная черта.
(Вообще говоря, не пристало писателю утомлять читателя отчетами о творческих муках за письменным столом, однако из благих побуждений замечу, что то, что я здесь пишу, не есть непродуманные наброски, но окончательная версия многочисленных страниц каторжной работы; и еще: то, что я тут излагаю и за что стою, причиняет мне боль).
Прекрасным в изобразительном искусстве Прессер находил то, что — как ни странно — вечно изображалось в календарях и школьных дневниках и, таким образом, было бесповоротно канонизировано: Парфенон; не то четыре, не то шесть каменных девиц в роскошно развевающихся одеяниях, подпирающих балкон в Фивах или где-то по соседству; «Моисей» Микеланджело; «Ночной Дозор» и последний автопортрет Рембрандта; а также совсем недавно обнаруженное полотно Вермеера «Христос в Эммаусе» — только долгое время спустя стало известно, что написано оно совершенно другим человеком