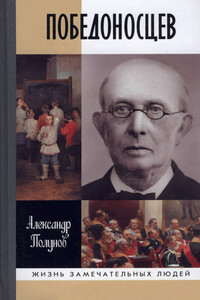Мои годы в Царьграде. 1919−1920−1921: Дневник художника | страница 7
Неслучайно, читая грищенковские описания о встреченных им на улицах Стамбула турках «с чекменами на плечах, открытыми, как у наших запорожских казаков», об их «синих, вышитых золотом шароварах», невольно видишь перед собой репинских «Запорожцев» с их чубуками и турецкими кафтанами. Словно стремясь поддержать эти сравнения, так часто в разных формах высказываемые на страницах дневника, Грищенко специально для второго издания дневника пишет дополнительные вставки, в которых вспоминает о казацких дружинах, совершавших «на своих челнах дерзкие набеги на берега Анатолии».
Мысль о глубинном родстве двух культур, отталкивающихся в своём развитии от византийского наследия, пронизывает даже те страницы дневника, где приводятся описания бытовых, житейских сцен. Здесь особенно показателен рассказ о встречах художника с представителями местной интеллигенции. Мало кто из его коллег, повторявших на московских диспутах слова о грядущем объединении «с современными восточными художниками для совместной работы»>13, смог воплотить их в жизнь. Грищенко же не просто познакомился, но сумел сблизиться, стать своим среди местных мастеров, завсегдатаев «Османского Монпарнаса», собиравшегося в небольшой греческой кофейне в районе Шишли. Ориентированные в своём творчестве на усреднённые образцы европейских академий, они поначалу с недоверием отнеслись к акварелям художника с их обобщёнными формами и сплошными цветовыми заливками. Но постепенно, не в последнюю очередь благодаря энтузиазму его почитателя и верного друга Ибрагима Чаллы, со временем самого ставшего известным живописцем, работы Грищенко помогли открыть местным художникам красоту форм и изысканность цветовых созвучий их родного города. Поэтому не приходится удивляться тому интересу, с которым турецкие исследователи подходят к дневнику художника, воспринимая его в качестве важного свидетельства общественной и культурной жизни города в начале 1920-х годов>14.
При подготовке русского издания дневника нам пришлось обратиться к обоим переводам. За основу был взят текст мюнхенского издания, представляющий последнюю авторскую версию. Различные его недочёты, в том числе объяснявшиеся «украинофильской» направленностью издательства, были сверены и скорректированы по изданию