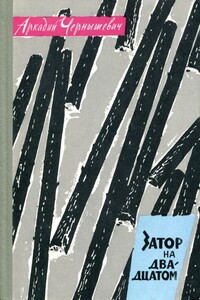За далью непогоды | страница 19
И это сущее об Аниве беспокоило Никиту сильнее всего, — он не мог отдаться нахлынувшим воспоминаниям, не мог, да и не хотел в эту минуту, чтобы прошлое даже малым застило ему его настоящее, его день.
…А хотя и на малую дольку времени позабылся Никита, но видел, в и д е л уже густой красноватый тальник по-над берегом Ицки, и глинистую стежку с высокой кручи к реке, и косую плиту белого камня над водой, а рядом, на зеленой камчужной траве, — корзина белья. И мать: ее проворные, летающие над водой руки, черный валек в них и алый мокрый комок его рубахи на белом камне. Валек шлеп-шлеп-шлеп — мимоходом горсть воды зачерпнул, опять потукал, опять пошлепал, а уж рубаха кверху низом перевернулась, сверкают брызги… «Да хватит, мам!» — говорит он, а она только взмокший лоб вытерла, смеется. «Что ты, Никитк, ай жалко? Ситчик крепкий, износу ему нет!..» И сам он, тонкий, костлявый, старающийся во всем угодить матери, несет потом на плече холодную корзину в гору и все говорит, чтобы положила валек сверху, ведь он тяжелый, а мать: «Небо-ось да не оттянет рук!..» — отвечает ему нараспев и грустно, зная, что в полдник, после дойки, отпросится у бригадира в Орел, посадит там Никиту на ночной поезд и тот увезет сына в Москву, а она останется без своего соколеночка тут одна, и, может быть, навсегда так. Знал это и Никита и радовался: едет учиться! Экзамены он сдал, и вот в срок пришел вызов, уже и паспорт ему выдали в Кромах. Он сладко страдал тогда от предчувствия неизведанной жизни в студентах, и жутковато было думать о будущем, — или потому так казалось, что с белья сочились через корзину ледяные капли и, падая за воротник, обжигали спину…
А у матери по лицу красные полосы.
Эх, Ицка, Ицка-река, далека ты сейчас от Анивы…
Никита стоял задумчивый, немного грустный.
Малое, однако, время потребовалось ему, чтобы отрешиться от ночных забот и услышать в тишине заполярного утра шум Большого Порога. Вспомнил бесхитростное, хранящее от напастей и бед материнское благословение, с каким отпустила она его тогда в путь, и, исполнившись благодарности к матери, укрепил мысль и сердце — и так поверил в себя и в успех грядущего в наступающем дне дела.
Сам того не замечая, Никита прислушивался к девичьим голосам, доносившимся сейчас из поселкового клуба, и печальный мотив неясно его тревожил. Почему-то не слышно среди поющих голоса Ани, Анки Одарченко, а ведь это ее песня…
Признаться, на стройке было ему не до песен, хотя он и любил их, и дома, под настроение, иногда говорил Елене, жене: «А не спеть ли нам что-нибудь веселенькое или громкое, чтобы мороз по коже пробрал?!» Елена делала вид, что не понимает иронии, и, зная, что голосом не сравнится с Анкой, отвечала вроде бы с безразличием: «Поставь пластинку, если тебе так хочется!..» — но губы непроизвольно съеживались, вокруг рта обозначались тонкие складки не то горечи, не то неприязни.